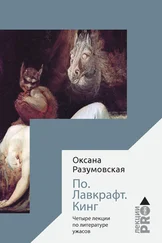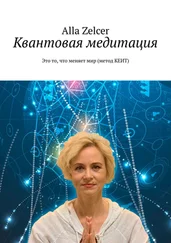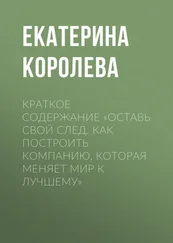Последнее достижение Марра восприняла сотрудница его института Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), создавшая целую программу изучения художественной литературы как такой эстетизации изначальных мифологических сюжетов. Например, трагедия возникает из жертвоприношения, а комедия – из праздника урожая, поэтому в трагедии полный тупик героя и появление богов, а в комедии – избыточный смех. Но Фрейденберг идет дальше: для нее важно не просто связать литературный жанр с древним ритуалом, но понять и сам ритуал как проявление определенной стадии развития языка. Тогда жертвоприношение оказывается «поеданием», а праздник урожая – «возвращением» богов, утопией, возвращением золотого века. Поедание жертвы, рост зерна как его смерть и воскресение и другие начальные акты опыта потом были развернуты и в ритуал, и в миф, и в литературную форму, и в литературное содержание. Поэтому после трудов Фрейденберг нельзя говорить о том, что «литература произошла из мифа» или «искусство произошло из ритуала», скорее, все они – разнонаправленные ветви эволюции, произошедшие из единого первоначального опыта. И метод Фрейденберг позволяет ответить на вопросы, которые мучили историков литературы, например, почему в античной комедии есть черты утопии или почему Гесиод сочиняет и поэму по ведению хозяйства, и поэму о происхождении богов – да потому что хозяйство и есть единственное место, где боги не только присутствуют, но и сохраняют память о своем присутствии.
Фрейденберг была кузиной Б.Л. Пастернака, многолетней его собеседницей, и эта дружба родных людей духовно обогащала обоих. Конечно, творческий подход Пастернака, который видел за готовыми вещами действие искусства, так что оно представало не оформлением готовых смыслов, а энергией порождения в том числе природных вещей и состояний, был очень важен для Фрейденберг. Но и для Пастернака важно было научиться мыслить историю не как череду обстоятельств, а как постоянное возвращение человека к созиданию собственной формы, в конце концов разрешающееся формой Воскресения. И нам как раз сейчас время вернуться к истолкованию художественного произведения в семиотике.
В отечественной семиотике сложилось три основных подхода, объясняющих, как именно из опыта возникает художественное произведение. Все три исходят из того, что содержание художественного произведения не сводимо к предшествующему ему опыту, как опыту познания окружающей действительности, так и внутреннему опыту, вместе с тем мы не можем назвать какой-либо Другой источник этого содержания, кроме определенным образом переработанного опыта. Как сказал О.Э. Мандельштам: «Он опыт из лепета лепит. И лепет из опыта пьет». Значит, встает вопрос, как при сочинении художественного произведения происходит такой прыжок, превращающий итоги опыта в совершенно незнакомый, прежде не бывший смысл.
Первый подход представлен, например, искусствоведением Б.А. Успенского и восходит к наследию русского формализма. Согласно Успенскому и другим, творческое действие деформирует произведение. Слово «деформация» может нам не нравиться, напоминая о вмятинах, но на самом деле оно переводится на английский как transformation; и может быть, утвердилось бы и слово «трансформация» (русское: преобразование), если бы оно в наших привычках словоупотребления не означало полного или почти полного отказа от прежней формы, тогда как «деформация» означает, что операции со старой формой можно как-то проследить. Например, вытянутые фигуры готической скульптуры – типичная деформация: не только архитектура, но и скульптура стремится к небу. В те же годы группа нейрофизиологов под руководством Вяч. Вс. Иванова исследовала деформации в изображениях, создаваемых людьми при поражении отдельных участков мозга: там тоже могли оказываться и вытянутые или как-то еще измененные изображения, что позволяло видеть и в культуре прежде всего факт организации мысли, избавляя культуру от натуралистического понимания.
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский видели в иконе «информационный парадокс» – изображено небольшое число предметов, а при этом передаются целые развернутые сюжеты и суждения. Конечно, можно объяснять такую насыщенность лаконичного изображения аккумулированием традиций, но для этих исследователей важнее было, что символы в иконе срабатывают как в черном ящике особого рода, который не только трансформирует информацию, оставляя в целом то же ее количество, но и приумножает ее, чтобы нам легче было оценить ее качество. Как раз о черном ящике мы сейчас поговорим.
Читать дальше
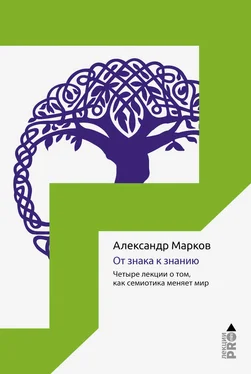
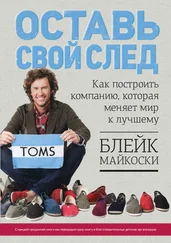

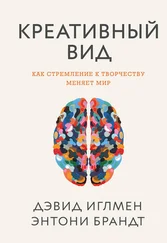

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)