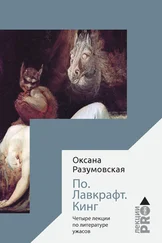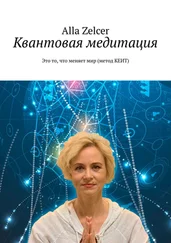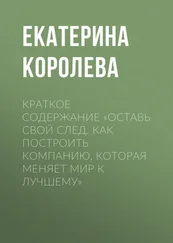«Лекции по структуральной поэтике» открыли широкие возможности для изучения, например, звукописи в поэзии. Русские символисты и их наследники (статьи Андрея Белого, «Поэзия как волшебство» К. Бальмонта, заумь Крученых и Хлебникова, «Ключи Марии» С. Есенина) пытались увидеть в звуках иероглифы, символы высших тайн, а значит, в интенсивной звуковой организации стихов – способ широко распахнуть ворота в эти тайны и тем самым преобразовать всю реальность. «Чтоб в край моих заморских песен Открылись торные пути», как писал Блок. Советская поэзия, наоборот, в звукописи видела прежде всего натуральный эффект, который можно использовать в целях пропаганды: стихи могут реветь как завод или самолет. Лотман делает шаг дальше тех и других, утверждая, что звук – это функция, а не вещь и не отражение вещи. Поэтому, добавим мы, в хорошей поэзии звукопись выстроена не как взрыв эмоций, а как полноценный график, сразу ясно, кто звучит и зачем. Например, у Ахматовой «Вдали раскат стихающего грома» – важно не только, что гром стихает, но что сама даль позволяет ему стихнуть, но раскрыв все величие его раската. Или у Пастернака «Октябрь серебристо-ореховый», важно не то, что октябрь уже насыщен первыми заморозками в овраге, где орешник, но что сам октябрь заставляет долго размышлять над состоянием природы и различать орешник тогда, когда уже прочувствована сама жизнь природы.
Но, продолжим еще дальше в сравнении с Лотманом. В обоих приведенных нами поэтических примерах есть смысловое подлежащее всего происходящего, в первом случае отличающееся от грамматического подлежащего, а во втором – формально совпадающее, но по сути нет, потому что акт называния, – мы называем октябрь, – превращен в самостоятельно действующую картину самого октября. Такое смысловое подлежащее легче сближается с другими первыми словами строк, в картину удивления в первом случае и в картину лирической осени во втором, чем взаимодействует с другими членами предложения по законам прозы.
Историческая заслуга отечественной семиотики перед поэтикой в том, что она, в отличие от формализма, заговорила о мире поэта и мире поэзии. Пример изучения мира поэта – статья М.Л. Гаспарова о поэзии Михаила Кузмина, где исследователь, составив тезаурус поэта, список слов по частотности с контекстами употребления, восстановил магистральный скрытый сюжет всей поэзии Кузмина – появление чудесного Вожатого, который часто не виден, если мы следим только за образами данного стихотворения. Но этот сюжет прорвется через необходимость связных образов, просто частотой слов, интенсивностью своей неминуемости.
Изучение мира поэзии – это изучение образов, не зависящих от воли отдельного автора, примерно того, что К.-Г. Юнг называл «архетипами». Примером такого изучения можно считать реконструкцию «основного мифа» древних славян, предпринятую Вяч. Вс. Ивановым и В.И. Топоровым. Это оказался миф о змееборце, который может стоять за всем фольклором, если это борьба солнца и света против хтонических (подземных) сил, а может оказаться сюжетом Георгия Победоносца. Основной миф не просто поэтичен, в том смысле, что употребляет яркие образы, он сверхпоэтичен, а поэтическое – это только его следы, остающиеся при узнавании или употреблении, когда народ полюбил Георгия Победоносца, узнав в нем что-то глубоко свое.
Еще более общий «основной миф», принадлежащий не только древним славянам, но и по утверждению В.Н. Топорова, возможно, всему человечеству – миф о мировом древе. Это древо мы видим на эмблеме нашего университета (РГГУ): В.Н. Топоров до самой смерти был нашим сотрудником. Мировое древо, в отличие от змееборчества, не противопоставляет небесный и хтонический мир, превращая земной мир в поле битвы, а как ось проходит через эти три мира, отводя каждому свое место. Тогда если славянская поэтика – драма, то мировая поэтика – эпос. Миф мирового древа позволил принять в реконструкцию поэтики мифа наблюдения над ролью посредников в различных мифологиях, посредников между земным миром и иными мирами: таким посредником может быть ворон или волк, как падальщик: не случайно волк оказывается оборотнем, т. е. принадлежность к двум мирам поэтизируется в его индивидуальной поэтике поведения. Посредников изучали такие исследователи, как Клод Леви-Стросс или Елеазар Моисеевич Мелетинский, а первым эту идею подал великий исследователь сказочных сюжетов Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970). Мировое древо подсказало всем посредникам, чем им на самом деле следует заниматься: белка растеклась по древу, а лось стал пастись у его корней.
Читать дальше
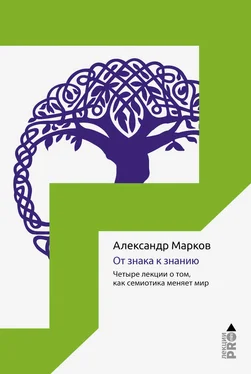
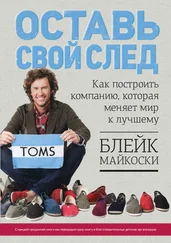

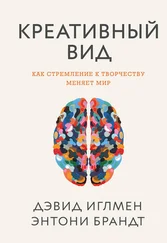

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)