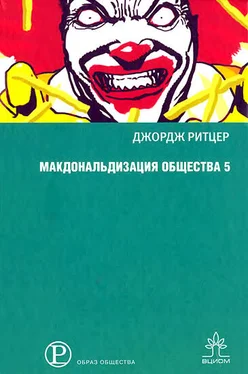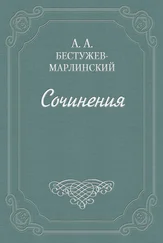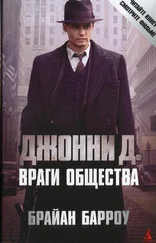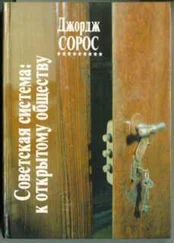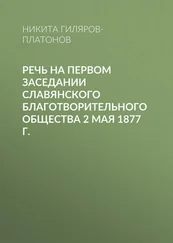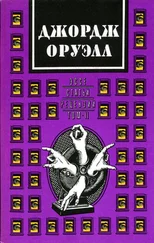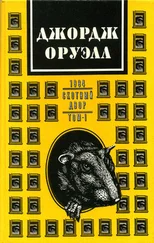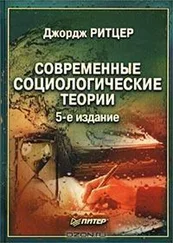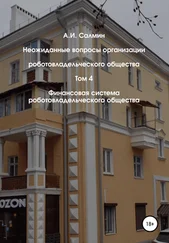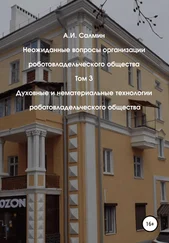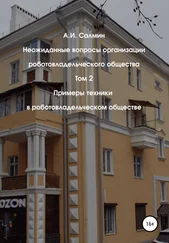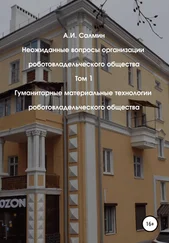Третья теоретическая ориентация в области социологии потребления — это постмодерная социальная теория, в особенности концепции и построения, изложенные в поздних работах Бодрийара. Ритцер внимательно читал не только раннего, но и позднего Бодрийара, поэтому его понятия «симулякра» и «соблазна» органически вошли в теорию новых средств потребления. Постмодерная социальная теория имеет самое прямое отношение к процессам исследования потребления в современном мире, поскольку она считает его отличительной чертой распространение самых разнообразных форм потребления, а не производства. Главное достоинство постмодерной социальной теории заключается в том, что она указывает на важность соблазна и очарования, на отсутствие их в современном мире и на необходимость нового соблазнения и очаровывания мира. По мнению Ритцера, работы постмодерных социальных теоретиков позволяют объяснить, как новые средства потребления позволяют преодолевать эффекты расколдовывания современного мира и позволяют его заново заколдовывать, соблазняя, контролируя и эксплуатируя огромные массы потребителей. Опираясь на синтез этих трех теоретических перспектив, Ритцер использует теорию новых средств производства для того, чтобы доказать, что мир, в котором мы живем, по своим базисным социальным характеристикам продолжает оставаться современным миром, вектор движения которого, как и прежде, задается функциональными принципами эффективности, предсказуемости, просчитываемости и контроля. Поскольку, как отмечает Ритцер, в основе траектории движения современности лежит рост формальной рациональности, то рационализация, как и во времена Вебера, продолжает оставаться ключевой чертой современного мира. Иными словами, для констатации его перехода в постсовременное состояние нет достаточных оснований. Несмотря на то, что развитые страны Запада драматически изменились в течение нескольких последних десятилетий, в целом они продолжают сохранять узнаваемые черты современности.
В заключение отметим, что выдвинутый Ритцером тезис о макдональдизации как современной форме рационализации социальной жизни и его применение к анализу процессов глобализации неоднократно подвергался серьезной и зачастую справедливой критике. Наиболее интересными в данной связи нам представляются замечания, высказанные в адрес концепции Ритцера английским социологом культуры Майком Фезерстоуном, на которых мы считаем целесообразным кратко остановиться. Фезерстоун, в частности, утверждает, что основные дискуссии вокруг природы современности вращаются вокруг двух соперничающих перспектив [21] Featherstone M. Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity. L.: Sage, 1995. p. 6–12.
. Первая изображает современный мир, находящийся в процессе глобализации, через призму американизации, макдональдизации и унификации национальных и локальных культур и традиций. Особое внимание при этом уделяется распространению новых средств коммуникации и потребления, тиражирующих по всему миру американскую по своему происхождению и содержанию потребительскую культуру, продукцию глобальных массмедиа и кинопродукцию Голливуда. В качестве негативного последствия этих процессов обычно указывают на разрушение местных культурных традиций под напором коммерциализованной продукции американской массовой культуры. Последняя, в свою очередь, производится и распространяется на основе принципов формальной рациональности и связанных с ней технологий. Каноническим выражением этой первой перспективы как раз и является концепция рационализации как макдональдизации Джорджа Ритцера, который настаивает на том, что в условиях глобализации функциональные принципы формальной рациональности подчиняют все больше сфер американского общества и остальных регионов мира.
Однако существует и вторая, альтернативная первой перспектива, которая связана с многоплановым рассмотрением взаимодействия между глобальным и локальным в рамках современных процессов глобализации. В ее контексте «глобальное» ассоциируется с широким распространением в современном мире новых масштабных социальных и культурных форм и институтов, таких, как массовая потребительская культура, спутниковое телевидение, мода на новые виды товаров и услуг, туризм и т. д., тогда как под «локальными» компонентами глобализации принято понимать менее масштабные и территориально ограниченные социальные и культурные формы и практики, ориентированные на специфические верования, ценности и стили жизни. К последним, в частности, обычно относят особенности культурных и национальных традиций, языки, обычаи и религиозные практики и обряды отдельных народов и т. д. С точки зрения второй перспективы главная особенность процессов глобализации в культурном аспекте связана прежде всего с тем, что отдельные культуры, ранее развивавшиеся в сравнительной изоляции, теперь начинают вступать во все более тесное и интенсивное взаимодействие. В результате этого взаимодействия возникает довольно широкий спектр результатов, начиная от эффектов гомогенизации локальных и национальных культур под воздействием культуры глобальной и заканчивая появлением гибридных форм культуры и даже возрождением и углублением локальных различий. С этой точки зрения главным недостатком как первой перспективы рассмотрения и оценки культурного влияния глобализации вообще, так и работ Ритцера в частности, является то, что в них явно недостаточное внимание уделяется исследованию механизмов, посредством которых происходит приспособление или синтез глобальных культурных веяний, в том числе потребительской культуры макдональдизированного типа, к локальным контекстам и особенностям национальных культур и традиций. Многие современные авторы, пишущие о культурных аспектах глобализации, также указывают на то, что преломляясь в иной, отличной от американской, культурной среде, принципы макдональдизации и основанные на них практики и формы социальной организации претерпевают серьезную трансформацию, придавая тем самым безличным принципам формальной рациональности неподражаемое своеобразие и колорит [22] См., например, весьма важные в данном контексте замечания Питера Л. Бергера, направленные на систематизацию опыта культурной глобализации в плане видоизменений, накладываемых на глобальную культуру местными особенностями: Бергер П.Л. Культурная динамика глобализации [2002] // Бергер П.Л., Хантингтон С. (Ред.). Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире. М.: Аспект-Пресс, 2004. c. 17.
. Все эти споры вокруг феномена «макдональдизации» свидетельствуют о том, что повестка дня не закрыта, а современность далека от того, чтобы быть навсегда заточенной в «железную клетку» тотального технического и административного контроля. Важный и неординарный вклад в эти дискуссии вносят и работы Джорджа Ритцера, в чем теперь может самостоятельно убедиться отечественный читатель.
Читать дальше