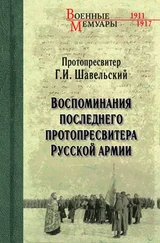Я храню в памяти и изречение, и стихи.
Изречение (на одном листке) было такое: «У нас литература – выше жизни». Гимназистом я долго ломал голову над этим изречением и, кажется, так до конца его и не понял.
Стихи же (на другом листке) были следующие:
Летел комар,
И вдруг – пожар.
Он – на пожар,
А там – угар
И страшный жар:
Сгорел комар!
К сему приписка: «Нравоучение выведите сами».
Когда приезжали в Томск знаменитые артисты, я обращался с просьбой об автографах и к ним. При этом жульничал: выражал в письмах восторги от пения или игры артистов, на самом деле не видевши их ни разу и т. п. На такое мелкое жульничество у нас в пансионе, с легкой руки Мефистофеля-Махони, установился взгляд как на своего рода молодечество: «все позволено», лишь бы выиграть и добиться своего!.. Расфантазировавшись, я написал однажды посетившей Томск артистке императорских театров певице Мравиной, которую никогда не видел и не слышал, объяснение в любви, присовокупив просьбу о присылке фотографии с автографом. Адресовал на гимназию. И что же? – Ответ – открытка с портретом – пришел, но попал не в мои руки, а в руки хитрой и злой лисы-инспектора гимназии Курочкина, цензуровавшего почту. «Куроцап» призвал меня в канцелярию, долго выпытывал, что я писал Мравиной, обрушил на меня гром и молнии своего гнева за неслыханную распущенность (мне было лет 15–16) – «переписку с артистками», наконец прогнал меня с позором, а открытку Мравиной, не показав мне, уничтожил. Меня всю жизнь интересовало: что написала мне Мравина?!
Ярко стоит в моей памяти фигура знаменитого трагика (в дни Октябрьской революции выказавшего себя в оригинальной маске анархиста) Мамонта Викторовича Дальского, давшего в Томске несколько спектаклей со своей собственной труппой. Я виде его в «Отце» Стриндберга. Впечатление было очень сильное. Дальский царил в труппе, состоявшей из посредственностей. В игре его были сила, подъем, глубина, четкость, изящество, мастерство. Таких трагиков Томск еще не видел. Переполненный огромный зал Общественного собрания был потрясен.
Когда после бесконечных рукоплесканий и вызовов публика уже расходилась, я – в гимназическом мундире – отправился за кулисы. Дальский один сидел в своей уборной. Только что я видел его на сцене как энергичного, нервного, представительного и подвижного полковника, а теперь передо мной сидела на стуле, мешковато опустившись, грузная фигура в штатском, темном, широком пиджаке и с расстегнутым воротником рубашки… Усы полковника и вообще грим были уже отстранены. На лице артиста лежала печать утомления. И только огромные, черные, выразительные глаза горели еще, как зарево, отражением бешеного внутреннего огня, незадолго перед тем сжигавшего артиста на сцене.
– Что вам угодно? – спросил Дальский, не двигаясь и не подымаясь со стула.
– Позвольте поблагодарить вас за вашу прекрасную игру. Вы замечательно играли!..
Дальский смотрел на меня испытующим, пристальным и тяжелым взглядом.
– Замечательно! – прибавил я еще раз.
– Спасибо, – процедил сквозь зубы артист. – Вы в котором классе учитесь?
– В шестом.
– И любите театр?
– Да, люблю.
– Ну, очень рад. До свиданья.
– Извините, я хотел обратиться к вам с большой просьбой.
– С какой же?
– С просьбой подарить мне ваш портрет с надписью, на память.
Дальский улыбнулся – одними глазами.
– Хорошо, – сказал он, – приходите на завтрашний спектакль, и я дам вам портрет.
Я горячо поблагодарил и откланялся. А назавтра. гимназическое начальство не пустило меня в театр. Шел «Кин» («Гений или беспутство»). С точки зрения гимназической цензуры, старая драма считалась предосудительной. И, на мое несчастье, я и не увидел великого артиста в роли Кина, и не получил – на память – его портрета с надписью, вероятно, уже приготовленного для меня.
В Москве, задавшись целью собрать подписи под очень популярной в то время фотографической группой артистов Большого театра, я обошел изображенных на этой фотографии Собинова, Севастьянова, Габриэль Кристман, Дейша-Сионицкую, Синицину, капельмейстера Авранека и др. певцов и певиц, и все они подписали группу. Меня очень занимало заглянуть хотя бы одним глазком в обстановку личной, частной жизни артистов, хотя… лишь немногие из них, при всей наружной любезности, допускали незнакомого молодого студента-собирателя автографов дальше передней. В частности, Собинов, живший в гостинице «Париж» на Тверской ул., объяснялся со мной через коридорного, и я его даже не видел. Из-за двери было слышно лишь, как он разучивал что-то новое, подыгрывая себе одним пальцем на фортепьяно; голос его звучал на редкость убого и деревянно, вернее – совсем не звучал, и если бы я не знал, что значит «разучивание партии», я никогда не поверил бы, что это голос знаменитого певца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу