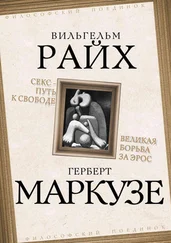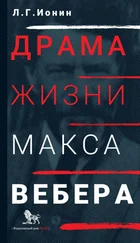Конечно, буржуазная критика смотрит на определенные формы проявления капиталистического общества, и в частности на его монополистической стадии, через призму этого общества. Она носит частный характер и преследует цель сохранить капитализм как систему и повысить его дееспособность. Принимая во внимание ее объективное влияние, то же самое можно сказать и о критике капитализма с мелкобуржуазных позиций. Вследствие своего неверия в революционную силу пролетариата и отстаивания точки зрения голого отрицания она принципиально не может выйти за рамки буржуазного сознания.
В дальнейшем мы рассмотрим отражение общего кризиса капитализма в буржуазных и соответственно в мелкобуржуазных концепциях Макса Вебера (1864-1920) и Герберта Маркузе (род. в 1898 г.), поскольку в философии этих мыслителей нашли свое характерное отражение оба варианта буржуазной критики — фаталистически-пассивная и иллюзорно-активистская. Хотя их исходные идейные позиции различны — Макс Вебер в основных предпосылках и элементах своего учения причисляет себя к неокантианству Виндельбанда и Риккерта, в то время как Маркузе является представителем неогегельянства, испытавшим влияние Гуссерля и Хайдеггера, а также теорий Фрейда и Лукача периода «Истории и классового сознания», — и тот и другой сходятся в центральном пункте: в идейной зависимости от Маркса и в то же время враждебности по отношению к Марксу. Их объединяет стремление к разоблачению капитализма как бесчеловечной системы, однако при этом анализ действительных законов его движения они подменяют анализом спекулятивных категорий.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КРИТИКИ КАПИТАЛИЗМА
Макса Вебера причисляют к тем буржуазным идеологам, которые отметили тенденцию к укреплению, затвердеванию механизма империалистического господства еще при ее зарождении. Исходным теоретическим пунктом его критики куль-
[7]
туры является изложенная в его работе «Протестантская этика и дух капитализма» концепция типичного якобы для Запада процесса прогрессирующей рационализации общественной жизни. По мнению Вебера, этот процесс рационализации в самых различных формах находит свое выражение в основной рационалистической установке «западных» людей — а также не в последнюю очередь в характерном рационализме аскетического протестантизма — и порождает своеобразный «образ мыслей», характерный «дух», специфические «экономические взгляды» и «жизненный уклад», которые должны были стать для капитализма системообразующими. Этот рационализм понимается Вебером в первую очередь как формальная рациональность, то есть как все более точный расчет адекватных средств для данной практической цели [2] М. W е b е г, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd.I, Tübingen, 1920, S. 266.
. В своей посмертно опубликованной социологической работе «Экономика и общество» он определяет формальную рациональность хозяйствования как «меру технически возможного для него (человека. — Г.К.) и действительно применяемого им расчета », следовательно, как «калькулируемое», «расчетливость», «исчисляемость», которые имеют место в первую очередь в денежных расчетах [3] Grundriß der Sozialokonomik, III . Abt.: M. Weber, Wirtschaft und Geseilschaft, Tübingen, 1922, S. 44-45. Понятие формальной рациональности хозяйствования образует ядро концепции рациональности Макса Вебера. В отличие от этого понятие материальной рациональности, включающее в себя ценностные постулаты, он считает «чрезвычайно многозначным» и приписывает ему подчиненное значение (там же). По этой причине, по-видимому, оно в данной работе в значительной мере обходится. Заслуживает упоминания тот факт, что Макс Хоркхеймер критически отмечает отказ Вебера от понятия материальной рациональности. См.: М. Horkheimer, Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft, Frankfurt a.M., 1967, S. 17 (примечание). Согласно Максу Веберу, «рациональность» и «рационализация» в смысле образования понятий идеального типа могут означать нечто очень различное в зависимости от того, с какой точки зрения рассматривается объективная реальность. Для него «рациональность» есть прежде всего идейная позиция, направленная на методическое достижение определенных практических целей благодаря все более точному овладению средствами: формальное представление о цели и средстве, исключающее содержательную оценку целевых установок.
.
Веберовское понятие рациональности или рационализма — оба термина употребляются им как синонимы — само по себе противоречиво. С одной стороны, он рассматривает его как простое методическое вспомогательное средство исследования и изображения, как «идеальный тип способа ориентации » [4] M. W e b e r, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, S. 536.
как преобразованную мышлением конструкцию, которая является «лишь техническим приемом для облегчения понимания и терминологии» [5] Там же, стр. 537. (В том случае, если отсутствует специальное примечание, курсивы в последующем тексте принадлежат самим авторам.)
. В качестве некоего идеального типа это понятие носит «неисторический характер», то есть, как поясняет Макс Вебер, «важные для нас черты» должны быть представлены в нем «часто в большей логической замкнутости, чем это имеет место в действительности, и лишенными развития » [6] Там же, стр. 267 (курсив наш. — Г.К.).
. С помощью образованного таким путем идеального типа понятия рациональности он пытается посредством типизации, а это значит неисторически , объяснить специфическое своеобразие Запада по отношению к остальному миру.
Читать дальше
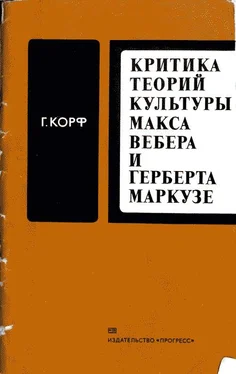

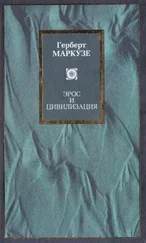

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)
![Герберт Маркузе - Разум и революция [Гегель и становление социальной теории]](/books/425968/gerbert-markuze-razum-i-revolyuciya-gegel-i-stanov-thumb.webp)