Как с возникновением капитализма работа стала рассматриваться многими либо в качестве инструмента социальных реформ, либо как самостоятельная добродетель и как рабочие противостояли этому, приняв трудовую теорию стоимости
Нормальная история значений работы так и не была написана.
Чарльз Райт Миллс. Белые воротнички: американский средний класс. 1951
Всё изменилось с возникновением капитализма. Под капитализмом я здесь понимаю не рынки (они существовали задолго до этого), а постепенное преобразование отношений услужения в постоянные отношения наемного труда, то есть в отношения между небольшим числом обладателей капитала и теми, у кого капитала нет и кто, следовательно, должен на них работать. С человеческой точки зрения это в первую очередь означало, что миллионы молодых людей застряли на стадии перманентной социальной незрелости. После того как гильдейская система рухнула, ученики могли стать подмастерьями, но подмастерья уже не могли стать мастерами. С точки зрения традиции это означало, что они не могли жениться и создавать собственные семьи. Фактически они были вынуждены всю жизнь оставаться неполноценными людьми [194]. Предсказуемым образом многие начали бунтовать против старых порядков, отказываться от бесконечного ожидания, стали раньше жениться, уходить от своих мастеров, чтобы строить собственные дома и создавать семьи. Это, в свою очередь, вызвало волну моральной паники среди нарождающегося класса работодателей, которая очень напоминает более поздние эпизоды моральной паники из-за подростковых беременностей. Ниже приводится отрывок из «Анатомии злоупотреблений» – памфлета, написанного в XVI веке пуританином по имени Филипп Стаббс:
Вдобавок каждый нахал десяти, четырнадцати, шестнадцати или двадцати лет от роду хватает себе женщину и женится на ней, совершенно не боясь Бога… и пуще того, без всякого разумения, как они станут жить вместе, откуда возьмут средства на содержание своих занятий и имущества. Нет! Нет! До этого ему нет дела, он думает о том, как бы обнять свою хорошенькую кошечку покрепче, ведь только этого он желает. Потом они себе строят дом – из одних, впрочем, сухих жердей, – и вот чуть не на каждом отшибе такие же, как они, живут потом попрошайками всю жизнь. Оттого земля полнится таким множеством побирушек… что скоро это вырастет в великую бедность и нищету [195].
Можно сказать, что именно в этот момент рождается пролетариат как класс. Этот термин весьма точно выведен из латыни, где «proletarius» означает «производящий потомство», ведь в Риме самые бедные граждане, у которых не было средств на уплату налогов, приносили правительству пользу только тем, что производили на свет сыновей, которых можно было призвать в армию.
«Анатомию злоупотреблений» Стаббса можно считать просто-таки манифестом пуританской «Реформации нравов», как они сами ее называли. В значительной степени это была точка зрения среднего класса, в равной степени пренебрежительно относившегося как к похоти, царящей в придворной жизни, так и к «варварскому беспорядку» народных гуляний. Отсюда также видно, что споры вокруг пуританства и истоки протестантской трудовой этики невозможно понять вне более широкого контекста – отмирания возрастного услужения и формирования пролетариата. Английские кальвинисты (в действительности пуританами их называли только те, кому они не нравились) происходили, как правило, из класса ремесленных мастеров и зажиточных фермеров, которые нанимали недавно возникший пролетариат. Их «Реформация нравов» была в особенности направлена против народных фестивалей, игр, попоек и «всех ежегодных ритуалов торжества хаоса, во время которых молодежь на время переворачивает общественный порядок» [196]. Пуританский идеал состоял в том, чтобы поймать всех «бесхозных людей» и поместить в благочестивое домохозяйство со строгой дисциплиной, где отец семейства направлял бы их в труде и молитве. Но это была лишь первая из множества попыток изменить нравы низших классов – от викторианских работных домов, где бедняков учили правильно распоряжаться временем, и до программы стимулирования к труду для получателей пособий (workfare), а также других аналогичных государственных программ в наше время.
Почему начиная с XVI века средний класс вдруг начал проявлять такой интерес к изменению нравов бедняков? Прежде этот предмет не очень его интересовал. Это всегда было исторической загадкой. Но если рассмотреть этот вопрос в контексте возрастного услужения, то всё встает на свои места. К беднякам относились как к испорченным подросткам. Работа (прежде всего оплачиваемый труд под присмотром мастера) традиционно была способом научить таких подростков быть правильными, дисциплинированными, самостоятельными взрослыми людьми. На практике пуритане и другие благочестивые реформаторы уже мало что могли пообещать бедным, и уж точно они не могли обещать им взрослую жизнь в былой форме – как освобождение от необходимости работать, выполняя чужие приказы. Так что это обещание заменили на благотворительность, дисциплину и инъекцию новой теологии. Работа, согласно их учению, была одновременно наказанием и искуплением. Работа была самоистязанием и поэтому имела ценность сама по себе, даже независимо от производимых ею благ. Эти блага были лишь знаком Божьей милости (и от них не следовало получать слишком много удовольствия) [197].
Читать дальше
![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)
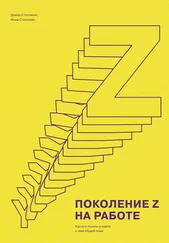


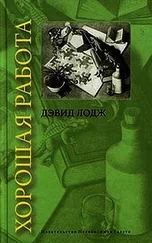

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)
![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)


