1. Если одни люди талантливее других (например, обладают красивым голосом, являются гениальными комиками или математиками), то мы называем их одаренными. Но если кто-то уже получил выгоду («дар»), то не имеет смысла давать ему за это дополнительную выгоду (больше денег).
2. Если одни люди работают усерднее других, то обычно невозможно установить, в какой степени это происходит потому, что они более работоспособны (снова речь идет о даре), а в какой – потому, что усерднее работают по своей воле. В первом случае вновь не имеет смысла дополнительно вознаграждать их за то, что они обладают врожденным преимуществом перед другими.
3. Даже если можно было бы доказать, что одни работают усерднее других исключительно по своей воле, то нужно было бы установить, делают ли они это из альтруистических соображений (то есть производят больше, потому что хотят принести благо обществу) или руководствуясь корыстными интересами, потому что стремятся получить бо́льшую выгоду для себя.
4. В предыдущем случае если они производят больше потому, что стремятся повысить уровень общественного благосостояния, то давать им непропорционально большую долю этого благосостояния значит противоречить их собственной цели. С нравственной точки зрения правильно вознаграждать только тех, кто руководствуется корыстными интересами.
5. Поскольку мотивы, которыми руководствуются люди, обычно изменчивы и разнородны, то работников нельзя просто разделить на альтруистов и эгоистов. Встает выбор: либо вознаграждать всех, кто прилагает более активные усилия, либо не вознаграждать никого. Любой из этих вариантов предполагает, что чьи-то замыслы не осуществятся. Альтруисты не смогут принести пользу обществу, в то время как эгоистам не удастся достичь своих корыстных целей. Если необходимо выбирать из этих вариантов, то с нравственной точки зрения лучше расстроить эгоистов.
6. Таким образом, более активные усилия или более производительный труд не должны вознаграждаться более высокой зарплатой или любым другим образом [179].
Логика безупречна. Многие из принятых предпосылок, несомненно, могут быть оспорены по целому ряду причин. Но в этой главе меня интересуют не столько основания моральной аргументации за равное перераспределение доходов, сколько то, что наше общество в целом приняло пункты 3 и 4, отказавшись при этом от пунктов 1, 2, 5 и 6. А самое главное – оно не согласно с тем, что работников невозможно разделить по их мотивам, и полагает, что достаточно лишь взглянуть на то, какой вид занятости выбрал работник. Существует ли помимо денег причина, по которой человек может заниматься этой работой? Если да, то в таком случае к нему нужно применять пункт 4.
В результате возникло представление, что людям, которые выбрали приносить пользу обществу, и прежде всего тем, кто получает удовлетворение от осознания , что они приносят обществу пользу, не стоит рассчитывать на зарплату среднего класса, оплачиваемый отпуск и щедрые пенсионные пособия. И наоборот, утвердилось мнение, что люди, которые страдают от осознания, что они выполняют бессмысленную или даже вредную работу только ради денег, именно по этой причине должны получать щедрое вознаграждение.
В политике это проявляется постоянно. Например, в Великобритании за восемь лет режима «экономии» были сокращены зарплаты почти всех работников бюджетного сектора, которые приносили непосредственную и очевидную пользу обществу: медсестер, водителей автобусов, пожарных, работников информационных кабинок на железной дороге, врачей скорой помощи. Дошло до того, что некоторые медсестры на полной ставке стали зависеть от помощи благотворительных продовольственных фондов. При этом партия власти настолько гордилась тем, что создала эту ситуацию, что парламентарии, как известно, дружно аплодировали, когда отклоняли законопроекты, которые предполагали повышение зарплаты для медсестер или полицейских. При удивительном потворстве той же партии произошло резкое повышение заработной платы тех самых банкиров из лондонского Сити, которые за несколько лет до этого чуть не разрушили мировую экономику. И при этом популярность правительства осталась на высоком уровне. Сложилось представление, что в соответствии с этикой общей жертвы во имя общего блага приносить жертву в первую очередь должны те, кто уже и так делает это в силу выбранной ими работы. Или же те, кто просто удовлетворен осознанием того, что их труд производителен и полезен.
Читать дальше
![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)
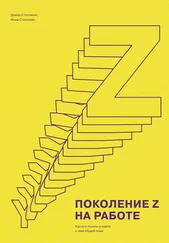


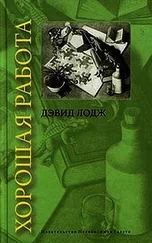

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)
![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)


