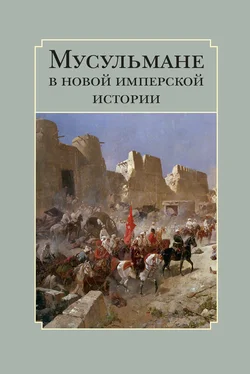Андижанские события вновь оживили цивилизаторские настроения и соответствующее политическое и исследовательское видение ислама. Тон обсуждения задавали те колониальные эксперты (в том числе и Н.П. Остроумов), кто был в корне не согласен с инициированной фон Кауфманом политикой «последовательного игнорирования мусульманства» и невмешательства в духовные дела мусульман. Андижанское восстание, позволявшее искусственно нагнетать представления об «исламской опасности», использовалось ими как повод пролоббировать ужесточение административного контроля в «мусульманском вопросе».
Более трезвую оценку как самого восстания, так и масштабов «исламской угрозы», как представляется, предложил С.Ю. Витте, мнение которого, возможно, сформулировали представители санкт-петербургской школы востоковедения [231] Я совершенно согласен с Н. Найтом, заметившим, что не стоит смешивать «русский ориентализм» и востоковедение (Night. On Russian Orientalism. P. 712). Но из этого, очевидно, не следует, что востоковеды в принципе выступали против колониальной политики.
.
В упоминавшейся выше «Записке» Андижанское восстание и аналогичные выступления оценивались как «мелкие вспышки религиозного фанатизма», которые «едва ли правильно было бы принимать в расчет в смысле характеристики отношений всего мусульманства к русской власти: возмущения на почве невежества… случались и среди коренного русского населения» [232] Записка С.Ю. Витте по мусульманскому вопросу, 1900 г. С. 249–250.
. Витте также справедливо полагал, что предложенные С.М. Духовским мероприятия могут породить неприязненное отношение к России не только в Туркестане, но и во всем мусульманском мире [233] Там же. С. 254–255.
. С его точки зрения, крайнюю позицию занимал не столько непосредственно С.М. Духовской [234] По свидетельствам современников, действительным инициатором ужесточения имперской политики был не «слабый здоровьем» генерал Духовской, а его заместитель Н.А. Иванов и особенно непосредственный начальник генерал-губернатора, военный министр A. Н. Куропаткин ( Г.П. Федоров. Моя служба в Туркестане (1870–1906 года) // Исторический вестник. 1913. № 12. С. 870–872).
, сколько те, кто готовил подписанные им документы, т. е. местные эксперты. Их состав частично совпадал с составом авторов знаменитого тогда «Сборника материалов по мусульманству» [235] Сборник материалов по мусульманству (Сб. ст.) / сост. B. И. Яровой-Равский. Санкт-Петербург, 1899. Вып. 1; Вып. 2 / Сост. В.П. Наливкин. Санкт-Петербург, 1900. Хотя в «Сборнике» были представлены и более нейтральные и познавательные статьи В.Л. Вяткина, С. Лапина, В.П. Наливкина.
.
Другой, менее известный, пример критики радикализации политики империи в «мусульманском вопросе» связан с «Докладом» мусульманского офицера на царской службе Абдулазиза Давлетшина (мусульманское имя – ‘Абд ал-Азиз Давлат-шах) [236] Доклад капитана Давлетшина по содержанию «Сборника материалов по мусульманскому вопросу» // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 233–237.
. Автор, тогда еще капитан, достаточно прозрачно намекал на то, что призрак андижанских событий стал причиной односторонних оценок ислама и мусульман. А. Давлетшин, между прочим, открыто признавал «рутинность и косность» большинства мусульман того времени и застойных форм мусульманского образования в Туркестане. Однако он призывал отделять «истинный дух ислама» от его исторически сложившихся форм и «наслоений позднейших толкователей» или от «прибавлений и разъяснений позднейших толкователей». Особенно категорично он возражал против тезиса, высказанного в «Сборнике материалов по мусульманству», согласно которому мусульмане были «самыми непримиримыми врагами христианства», а ислам учит «ненавидеть все прочие религии, предписывает истреблять христиан при всяком удобном случае». Давлетшин резонно замечал, что такого рода характеристики у человека, не знакомого с основами ислама, вызовут недоверие и вражду к «туземцам» Средней Азии. У мусульман же подобные суждения об их религии оставят «чувство… глубокой обиды и способствуют еще большему увеличению исторически сложившейся розни» [237] Там же. С. 236–237.
.
Примерно через десять лет после Андижанского восстания дискуссии по «мусульманскому вопросу» вновь оживились, на сей раз – благодаря министру внутренних дел и председателю Совета министров (с 1906 г.) П.А. Столыпину и в контексте новых «угроз» целостности империи – панисламизма и пантюркизма. Не останавливаясь подробно на документах по этому поводу, подписанных Столыпиным, отмечу лишь наиболее важные для наших целей положения [238] Записки П.А. Столыпина по «мусульманскому вопросу» // Императорская Россия/сост. Д. Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 318–337. Издатель показал, что оба документа фактически были подготовлены русскими этнографами (а затем работниками государственных структур) братьями А.Н., Н.Н. и В.Н. Харузиными (там же, введение к изданию. С. 316).
. Столыпин не просто напрямую ссылался на Доклад генерала Духовского, но и воспроизводил некоторые тезисы, высказанные в документах, подготовленных некогда экспертами последнего. Так, в «Записках» П.А. Столыпина по «мусульманскому вопросу» вновь предлагалось отказаться от политики «игнорирования ислама». Вместо нее следовало практиковать осторожный и тактичный административный контроль, не задевающий религиозных чувств мусульман. На фоне роста «панисламизма» политика «игнорирования» угрожала, как полагали составители документа, государственным интересам России. По мнению русских дипломатов и жандармских служб, влияние «панисламизма» исходило из Турции и отчасти из Индии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу