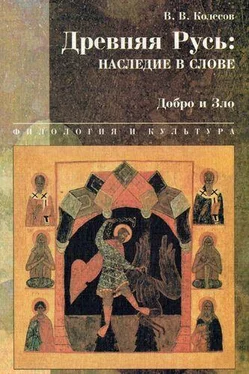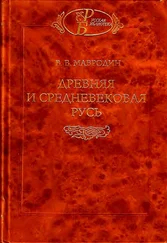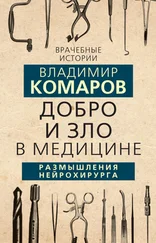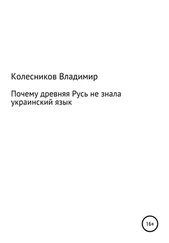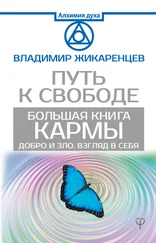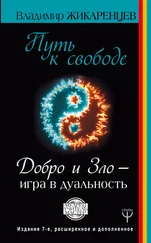3. Мудрость, вежество (знание жизни), богобоязньство, правда (правдолюбие), молчанье;
4. Честь, стыденье (стыд, студеньство), милосердие (милость), чистота (целомудрие), братолюбие, дружелюбие;
5. Воздержанье, тщанье, терпение (долготерпение), кротость, прилежанье, усердие, страдолюбие (трудолюбие);
6. Благодарность, приязнь, послушание (скромность), смерение (от слова мѣра ), бесстрастие, мужество (храбрость), крепость (твердость), рвенье;
7. Радость, упованье (надежа, чаянье), любовь (ласка).
Отсутствие соответствующих добродетелей переводило первые две группы пороков в разряд бытовых; это — преступления против личности и имущества, которые становились социально опасными по последствиям. Нравственная их ценность стала сомнительной. Все остальные пороки соотносятся с добродетелями того же класса и тем самым вступают в эквиполентную оппозицию, создавая систему этических ценностей. Замечательная подробность: добродетелей значительно меньше, чем пороков, но терминов для их обозначения гораздо больше и каждый имеет не один синоним.
Теперь мы можем сделать выводы из наших сопоставлений.
ЭТИКА ЗАПРЕТОВ
Сравнение всех источников показывает, что православное христианство предлагает этику запретов, которая ориентирована на качества с отрицательным знаком (маркированы пороки) и предостерегает от них. Поэтому и терминологически пороки разработаны особенно четко, недвусмысленно, последовательно и всесторонне, с учетом всех оттенков возможного нарушения правил поведения. Все они, кроме того, четко соотносятся с однозначными греческими терминами и по смыслу своему являются собирательно-общими, пластично укладываются в любое отрицательное по характеру действие, которое и на самом деле заслуживает осуждения. Короче говоря, обычно это — гиперонимы, т. е. слова родового смысла. Именно они и маркированы дважды в эквиполентной оппозиции к добродетелям; они абсолютны в своих проявлениях.
В отличие от пороков, среди добродетелей почти нет столь же устойчивых и родовых определений, обслуживаемых к тому же достаточно древним словом (корнем). Среди них очень мало гиперонимов типа правда, мудрость, мужество, кротость, терпение и самого слова добродетель. Это не родовые по смыслу термины, а синкретичные символы, слишком насыщенные значениями и культовыми образами, чтобы стать терминами. Вдобавок, почти все они — слова производные, и возникали они как кальки соответствующих по смыслу греческих слов.
Иногда добродетели и пороки терминологически не разграничены, поскольку народное (языческое) и церковное (христианское) представление о соответствующем качестве еще не противопоставлены друг другу. В XIII в. предпочтительно слово гордость , при обозначении действия также гордение, и только у Нила Сорского гордость уже совершенно отсутствует в перечне пороков, он говорит о гордыне превозношения. Это важная подробность. Она показывает существенность стилистических градаций в оформлении терминов этики (и не только этики). Архаизм становится скорее термином, потому что по своему характеру он уже многозначен и, следовательно, способен в известных условиях стать родовым термином в высоком стиле речи.
Было бы осторожнее не принимать во внимание образований с отрицательными приставками не- и бес-, выражающими отрицание соответствующего качества. Все такие слова могут быть вторичными по образованию: они возникли в восполнение системных противопоставлений уже в тот момент, когда системное противопоставление порока соответствующей добродетели было осознано: немилосердие, неудержание, несытьство имения, несострадание, непослушание, небрежение, неподобие, бесчиние и т. д. Уже сам факт отрицания данного показывает не эквиполентную оппозицию с равноценными оппозитами , а совершенно новую, характерную как раз для нашего времени оппозицию привативную, с выделением основного (плюс) и противопоставленного ему отрицательного качества (минус).
Тем не менее само наличие таких образований, составленных искусственно, по типу греческих терминов с приставкой а-, показывает, что в системе действительно маркированы отрицательные оппозиты, тогда как положительные члены (добродетели) являются фоном и основанием сравнения, которые диктуют дальнейшее развитие системы понятий о добродетелях. Другими словами, система положительных ценностей строится в отталкивании от пороков: пороки своими различиями разъединяют, тогда как добродетели соединяют в идеальном устремлении к сходствам и подобиям. Они оказываются этичными как раз потому, что соединяют, а не разделяют.
Читать дальше