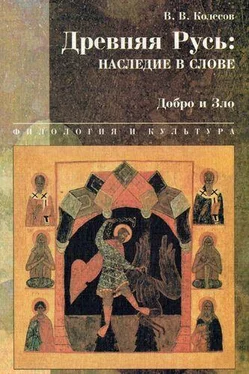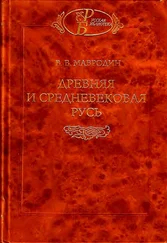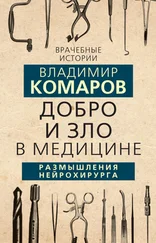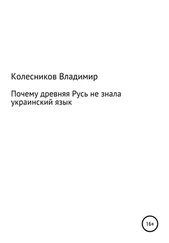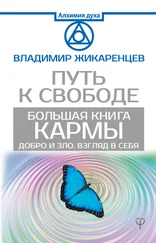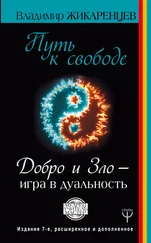Из общего перечня черт характера и эмоций, приписанных историческим лицам, можно представить коренную особенность церковного идеала добродетели: это максимальное отстранение от людей, от земного их множества, от их проблем и страданий — как средство возвращения к ним же после общения с Богом. Церковная этика — этика без коллектива, это замыкающаяся сама на себе в личностном воплощении сумма этических норм. Совесть — совместное знание Бога, через посредство которого осуществляется связь и между людьми. Нет непосредственного выхода от человека к человеку, нет еще и современного понимания этики и совести.
ДЕЯНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Итак, о бытовых пороках можно сказать, что перечень их еще краток, и дополнения по «Правде Русской» мало что добавят в приведенный список. В этом источнике, прекрасно изложенном русскими историками, кое-что уже выходило из употребления, отражало старые нормы этики. Перечень возможных преступлений невелик, все они распределяются на конкретные поступки, которые обычно обозначаются глаголом. Отражен тот уровень мышления, когда конкретность поступка еще не облеклась в отвлеченное представление о грехе, поэтому не выражается отвлеченным по смыслу словом, то есть именем существительным. В лучшем случае отвлеченность передается в форме обобщенной собирательности, и тогда поступки предстают как преступления.
Общее впечатление таково, будто в Х—ХІІ вв. столкновение народно-бытовой традиции в оценке тех или иных явлений с церковными канонами (правилами) еще не привело к синтезу на уровне абстрактно явленного греха, не зафиксировано в понятии и потому не имеет своего родового имени. Стороны «говорят на разных языках». Чтобы убедиться в этом, обратимся и к другим источникам.
Прежде всего устраним из рассмотрения оценки, осуждающие поведение вчерашнего язычника, но не имеющие благовидного основания. Чаще всего они возникали из чувства ревности как определение соперничающих с собственными, церковными, точно такими же действиями. Светскому сборищу-пиру следует предпочесть «стояние во храме» ( сбор творити в «Постановлениях» Собора 1274 г.); церковное песнопение, обращенное к Богу, несомненно, «чище» игранья и бесовскаго пенья и блудного глумления с плясаньем и плесканьем (в ладоши) в «Ответах» Иоанна 1080 г. Игранье, плясанье и гуденье вызывают нежелательные последствия; в частности, вместо тихой и сердечной молитвы перед иконой жрут (приносят жертвы) бесом и болотом и кладезем, поскольку языческое поклонение воде(как символу жизни, не церковному винукак символу крови Христа) христианский писатель обязательно соединяет с собственным представлением о демонах, именуя языческих богов за их множественность бесами. Не освященный церковью брак — всего лишь таинопоимание и потому недействителен; и т. д.
Выстраиваются два параллельных ряда деяний, хотя действие одно и то же. Деяния воспринимаются как различные, как деяние и как действие, потому что идеи их различны. Один ряд — целиком положительный, разрешенный и допустимый, поскольку он освящен; другой ряд находится под запретом, хотя хорошо известно, что и его «внешний закон повелевает», т. е. допускает. Обе линии сближает одинаковое осуждение чрезмерности в проявлении того или иного действия, однако ясно: конфронтация христианства и язычества идет по линии чисто обрядовых совпадений и только они несовместимы друг с другом. Но поскольку справедливым признается лишь «чистое», а «нечистое» осуждается, станем на место не искушенного в премудростях веры средневекового поселянина-простеца: разве пение — не всегда пение? почему петь плохо тут, но хорошо там? почему «целующихся с женами на пирех» следует осуждать, а то же самое при встрече Пасхи — нет? почему утешение от молитвы — не то же самое у разных алтарей? если браки заключаются на небесах, не все ли равно, какой жрец соединил руки брачующихся?
«Нет», — говорят нам, и по признакам расхождения мы можем судить о причинах. Всякая треба требует средств, экономическая потребность вызывает борьбу за право «правильной» веры. К вере никакого отношения не имеющей.
Мы говорим не о конфронтации двух великих религий, а о поведении «маленького человека», втянутого в эту борьбу помимо его желания. Из-за этого оказался он в разломе между двумя системами духовных представлений, между традиционной своей и новой, которая требовала отречься от всего, столь дорогого, но за это обещала ему личное спасение. Как раз о личном спасении он задумывался меньше всего, хотя, конечно, было все-таки нечто, чем христианство видимо возвышалось над язычеством и в истолковании нравственных категорий. Христианство боролось с чрезмерностью всякого проявления личного чувства — эмоций или деяний, добродетели или порока — неважно. «Всякому делу — время и час...» Нравственная узда как способ сведения к среднему, т. е. к норме, — вот что казалось важным в христианстве создателям Русского государства. И под покровом таким образом понятой свободы закисала до времени бесшабашность языческой воли.
Читать дальше