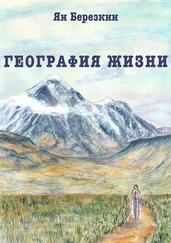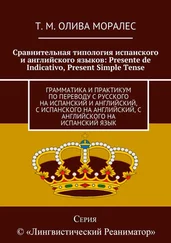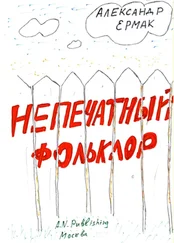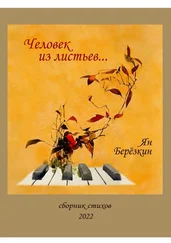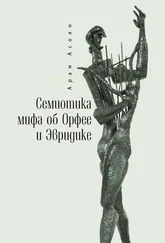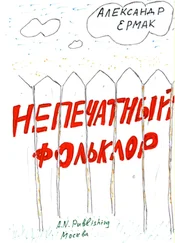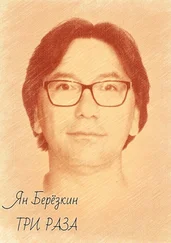Варианты сюжета, в которых собака охарактеризована положительно, известны и в Южной Азии. В мифе качари, одного из народов Ассама, бог создает людей, но не успевает до наступления темноты вложить в тела души. Ночью братья бога уничтожают его творение. Тогда бог создает двух собак, они отгоняют разрушителей, и утром он завершает творение [Soppitt 1885: 32]. Похожие тексты записаны у народов мунда на востоке Индии, в частности у корку, сантал, бирхор и у собственно мунда [Elwin 1949: 16, 19-20, 280—281]. Параллели с сибирскими текстами особенно очевидны, если учесть, что по крайней мере у качари и в менее явной форме у сантал вся эта серия эпизодов следует после рассказа о добывании земли со дна моря. В то же время лишь у качари, бирхор и мунда божество создает сторожа, отгоняющего персонажей, пытающихся испортить человеческие тела, причем у мунда это не собака, а паук. Мунда вряд ли жили в Индии ранее II тыс. до н.э. [Fuller 2002: 206]. Прародина тибето-бирманцев находилась близ Ассама, в Сычуани, но их глубокое проникновение в Бирму и Ассам также началось лишь с I тыс. до н.э. [Driem2002]. Отсутствие рассматриваемого мифа у дравидоязычных народов Индии делает маловероятным его южноазиатское происхождение. Наиболее вероятно поэтому, что исходный ареал мотива собаки-сторожа следует искать в Центральной Азии.
Holmberg 1927: 384
Василевич 1959: 184; Вербицкий 1893: 118; Лукина 1990: 42, 291—293
Мотив съеденного плода, травы и т. п. как условия достижения сексуальной зрелости у первых людей есть у дравидов Индии [Elwin 1949: 281—282, 291], причем там он оформлен проще, нежели в Ветхом Завете — съеденный плод приводит к появлению месячных кровотечений или беременности.
Характерно, что в более отдаленные северные и восточные ареалы (Таймыр, Колыма, Камчатка, Чукотка) миф о собаке-предательнице вообще не проник.
Ср. доводы в пользу проникновения на Алтай манихейства через согдийское посредничество [Кызласов 2001].
Гимм 1982: 109
Шимкевич 1896: 16
Смоляк 1989
Смоляк 1980: 228—229
Шталь 1982: 196—198
Eisen 1919: 234—238; Toivonen 1937: 97-99
Акцорин 1991, № 116: 178; Toivonen 1937: 99
Бутанаев, Бутанаева 2001: 24
Никифоров 1915: 245—246
Потанин 1883, № 70: 323; Хангалов 1958—1960, т.1: 220; т.3, № 129: 362
Потанин 1883, № 70: 322—323; 1893, № 19: 351
Юань Кэ 1987: 206, 337
Китайцы помещали «Страну собачьих жунов» на северо-западе. Как и у монголов и тюрков, псоглавцами считались только мужчины, женщины имели чисто человеческий облик. Ср. записанное в Дагестане у мюрагинцев представление о стране, где по ночам мужчины превращаются в собак [Ханагов 1892: 153].
McCleary 1997: 69-71
Carneiro 1977: 7
Leonard a. o. 2002: 1615
Fagan 1995: 362; Schwarts 1997: 103, table 2.1
Schwarts 1997: 103, table 2.1
Bird 1990; Burger, Merwe1990; Staller 2001; 2003; Staller, Thompson 2002; Tykot, Staller 2002
Schleidt, Shalter 2003: 65
Savolainen a. o. 2002
Crockford 2000: 271—285
Leonard a. o. 2002
Саблин, Хлопачев 2004; Sablin, Khlopachev 2002
Абрамова 1984: 322; Громов 1948: 369—372
Диков 1979: 54-60
Крижевская 1978: 75-78; Медведев и др. 1971: 62-63
Подтвержден новыми исследованиями [200].
Tchernov 1997
Вполне одомашненная собака в Леванте появляется с Докерамического Неолита Б [201], но даже если морфологические отличия натуфийской собаки от волка и были невелики, это животное уже явно находилось в особых отношениях с человеком.
Березкин 2003: 231, 268
Sadek-Kooros a. o. 1972; Васильев 2004: 93
Йеттмар 1986: 358
Сагалаев 1984: 73
Потанин 1891: 141—143
Елизаренкова 1972: 199, 353
Крюкова 1999: 17-20
Boyce 1984: 146
Walker, Uysal1966, № 5: 64-71
Бунятов и др. 1900: 97
Демидов 1962: 196
Толеубаев 1991: 94
Баялиева 1972: 71
Алексеев 1980: 175
Потанин 1883, № 131: 412—416
Таубе 1994, № 3: 61-69
Читать дальше