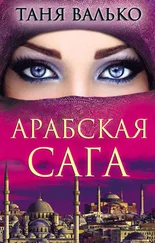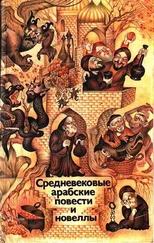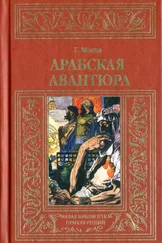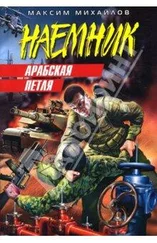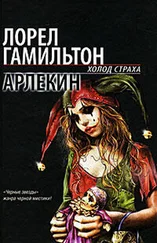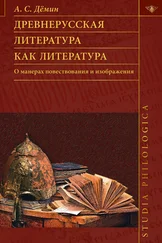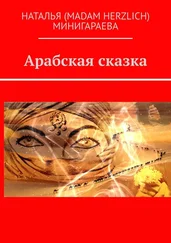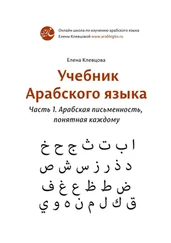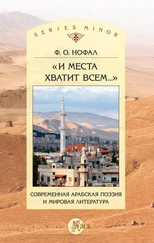При первом чтении древняя поэзия производит впечатление однообразия и бедности. Ее темы ограничены горизонтом аравийской пустыни, идеи — духом и характером бедуинского общества. Она отражает однообразие жизни в пустыне, ее примитивность, реальность, отсутствие оттенков и субъективности чувства. Отсюда — недостаток живости и изобретательности, в чем ее часто упрекают. Те, кто читает древнеарабскую поэзию в переводе, видят в ней только рабское и бесцветное подражание стандартному образцу, за исключением лишь немногих коротких стихотворений, главным образом элегий и описаний битв, которые больше соответствуют вкусу западного читателя. Но такие читатели совершенно не понимают намерения поэта. Он не стремился прокладывать новые пути и пленять слушателей оригинальностью и полетом мысли; поступив так, он попросту не был бы понят современниками. Целью его было, развивая ту или иную тему по четко обозначенной канве, украсить ее всеми доступными средствами искусства, превзойти своих предшественников и соперников красотой, выразительностью, сжатостью фразы, правдивостью описания и восприятия действительности… Древнеарабскую поэзию никогда не удастся удовлетворительно перевести на какой-либо другой язык именно потому, что ее содержание так однообразно и все мастерство заключено в неподдающейся передаче поэтической манере. Индивидуальность поэта раскрывается лишь после внимательнейшего его изучения, довольно трудного уже для {21} арабов последующих поколений и требующего целой жизни от европейцев.
Типичным образцом законченного стихотворения является касида, или ода, состоящая из ряда картин, отображающих различные стороны жизни арабов и свободно связанных между собой в чисто условной последовательности. Какова бы ни была основная тема стихотворения, поэт может подойти к ней, лишь пройдя ряд последовательных этапов (хотя один или несколько из них он волен опустить).
"В начале предполагается, что поэт — в пути, конечно, на спине неизменного верблюда в сопровождении одного или чаще двух своих друзей: путешествие по пустыне в одиночку опасно и всегда требует спутников. Дорога приводит его к месту прежней стоянки своего или дружественного племени, с кольями от палаток, закопченными камнями, на которых стоял котел для варки пищи, с осыпавшейся канавкой около места палатки для стока дождевой воды. Поэт просит путников помедлить немного — с этого обыкновенно начинается стихотворение, — ведь эта лощина с кустами терновника, с высохшим теперь ковром травы хорошо знакома ему; он узнает прежнюю стоянку, где когда-то провел лучшее время своей жизни вместе с возлюбленной, когда они были молоды. Теперь жизнь и постоянные кочевки давно разлучили их друг с другом. На минуту останавливается он над этими опустелыми местами, где вместо людей бродят теперь только дикие антилопы, и погружается в воспоминания, проливая слезы"**.
______________
** Автор приводит эту цитату в свободном пересказе по статье И. Ю. Крачковского "Арабская поэзия" ("Восток", IV, М.-Л., 1924, стр. 101; И Ю. Крачковский, Избранные сочинения. II, М.-Л., 1956, стр. 251–252). Здесь мы воспроизводим ее в полном виде (прим. перев.).
Остановитесь оба, мы поплачем, вспомнив о любимой и о
жилье у песчаной извилины, что между ад-Дахулем и Хаумалем,
Тудихом и ал-Макратом. Следы там не исчезли, потому что
южный и северный ветры там сменялись.
Мои спутники стояли подле меня на верблюдах, говоря: "Не убивайся
от горя и крепись!"
Лишь слезы обильные могли меня исцелить; но что пользы рыдать
у стершихся следов? *** {22}
______________
*** Из му 'аллаки Имру' ал-Кайса.
Нередко эта часть стихотворения развертывается в более или менее подробное описание любимой:
Тогда она пленила меня устами с рядом белых зубов, которые
сладко целовать, приятно вкушать.
Словно мешочек с мускусом от торговца [благовониями] на
красавице, благоухание из ее уст опережает их приближение к тебе;
Или девственный луг, незасоренный, незатоптанный, где траву оросил
дождь.
Луг, который часто поливают ранние щедрые облака и оставляют
лужи, [круглые и сверкающие], как [серебряный] дирхем.
[Поливают] обильным ливнем, беспрерывным, так что воды покрывают
каждую травинку ****.
______________
**** Из му'аллаки 'Антары.
После любовного зачина (называемого насибом) поэт, опомнившись, продолжает свой путь и пользуется случаем, чтобы дать описание своего верблюда или коня со всем воодушевлением знатока. Быстрота его бега дает поэту повод сравнить его с диким ослом, страусом или антилопой, но сравнение вскоре забывается, когда поэт начинает рисовать яркую картину жизни животных или сцену охоты, которая для европейца составляет самую привлекательную часть стихотворения.
Читать дальше