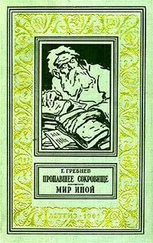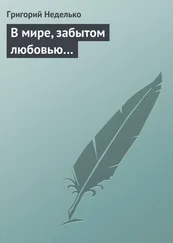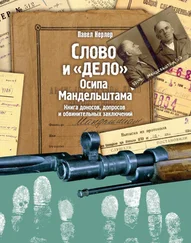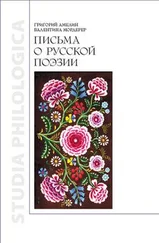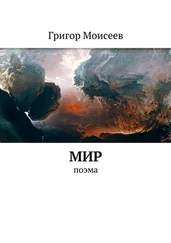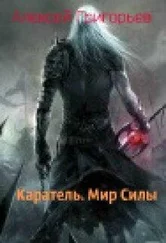Мы с Нэлли делаем вид, что — в глубоком волнении мы: всюду сходственности словесных значений!
Старичок продолжает:
— «Racine», по немецки же «R'tzel»!
— «Но то не „редиска“ уже: а „смысл“».
— «Но „корень“ есть „смысл“».
Уже я продолжаю:
— «Редис, радикал, руда, рдяной, rot, rouge, roda, роза, рожай, урожай, ржа, рожь, рожа…».
В лирике смехотворная редиска — наисерьезнейший корень смысла. Несуразное огородничество языка философски осмысленно. Белый дробит фонетические элементы, производя неартикулируемые тонические значения. Он строгает исходную единицу на лучины разноязыких слов, дергающихся, кривляющихся, казалось бы, никак между собой не связанных. Но в этой звуковой пантомиме между розой и рожей нет зазора, и пальца здесь не просунешь. Они уже завязались.
Всеобщая страсть филологической мысли к модельному мышлению, попытка наглядно представить, визуализировать этот опыт губительно сказывается на анализе текста. Несвертываемость наглядного мышления обескровливает онтологию. Исследователь видит лишь то, до чего, проще говоря, он может дойти своим умом . Но туда своим умом — не ходят. «Хоти невозможного», требует Хлебников. Поэзия и есть область невозможного. Ведь сколько бы мы ни пытались представить себе мандельштамовское «Играй же на разрыв аорты с кошачьей головой во рту…» — это невозможно, но это есть . И это можно понимать! В терминах конечного опыта и размерности человеческой психики и сознания текст недосягаем. «Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник» дантовской комедии, предостерегает Мандельштам (III, 227). Когда не раз от друзей и коллег, очень тонких и нами необыкновенно почитаемых, приходилось при обсуждении нашего очередного опуса слышать: «Не может быть!», то это означало следующее: «Не может быть, потому что я представить себе этого не могу». «Да ты и не должен», — упорствовали мы. Это золотое эпистемологическое правило. Отказывая Мандельштаму в том, что ты представить себе не можешь, ты нарушаешь это правило почти в гигиеническом смысле и примериваешь на себе реальность, которая идеально предметна . (Читатель, верно, заметит и будет прав, что для нас не будет альтернативным выбор между онтологий понимания и эпистемологией интерпретации.) Видит бог, мы (заранее!) категорически не понимаем, чем поэзия отличается от прозы, литература от реальности, один поэт от другого. Например, в одних случаях поэзия может пастерначиться, а в других — мандельштамиться, вот и все.
На примере немецкого языка у Марины Цветаевой видно, насколько чужой язык был своим .
«От этих слов: Feuer — Kohle — heiss — Heimlich — (огонь — уголь — жарко — тайно) у меня по-настоящему начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли — горлом глотаю.
Keine Rose, Keine Nelke
Kann bl'hen so sch'n,
Als wenn zwei verliebte Seelen
Zu einander thun stehn. [1] Ни одна роза, ни одна гвоздика Не могут так прекрасно цвести, Как это делают две влюбленные души, Обращенные друг к другу.
Тут-то меня и сглазили: verliebte — Seelen! Ну, что бы — Herzen! И было бы всё, как у всех. Но нет, что в младенчестве усвоено — усвоено раз навсегда: verliebte — значит Seelen. А Seelen это ведь See (остзейская „die See“ — „море!“) и еще — sehen (видеть), и еще — sich sehnen (томиться, тосковать), и еще — Sehnen (жилы). Из жил томиться по какому-то морю, которого не видел — вот душа и вот любовь. И никакие Rosen и Nelken не помогут!
Когда же песня доходила до:
Setze Du mir einen Spiegel
Ins Herze hinein… [2] Вложи мне зеркало в сердце…
— я физически чувствовала входящее мне в грудь Валерино зеленое венецианское зеркало в венце зубчатого хрусталя — с постепенностью зубцов: setze — Herze — и бездонным серединным, от плеча до плеча заливающим и занимающим меня зеркальным овалом: Spiegel» (II, 162–163).
Цветаева рассуждает как немецкий поэт! Но так должно говорить не только по отношению к немецкому, и не только у Цветаевой. Р. Я. Райт-Ковалева отмечала у Маяковского «совершенно сверхъестественное восприятие звуковой ткани любого языка». Это выражение некоего общего настроения. Поиски единого, в пределе — божественного всеязычного языка:
Не позабыть бы, друг мой,
Следующего: что если буквы
Русские пошли взамен немецких —
То не потому, что нынче, дескать,
Все сойдет, что мертвый (нищий) все съест —
Не сморгнет! — а потому, что тотсвет,
Наш, — тринадцати, в Новодевичьем
Поняла: не без- а все-язычен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу