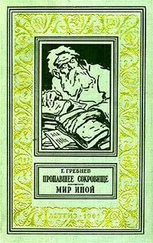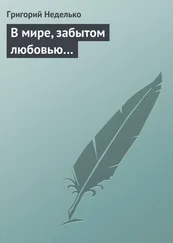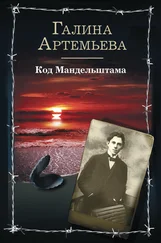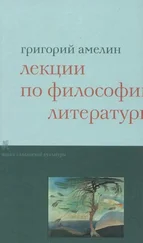Рифма — место слияния, соития брачующихся окончаний. «Не трудно заметить, — писал Хлебников, — что время словесного звучания есть брачное время языка, месяц женихающихся слов…» (V, 222). В статье «О современном лиризме» Анненский останавливается, в частности, на брюсовском стихотворении «Но почему темно? Горят бессильно свечи» (1905, 1907):
Идем творить обряд! Не в сладкой, детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках, — извивы губ сливать ,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать.
Как милостыню, я п риму покорно тело ,
Вручаемое мне, как жертва палачу.
Я всех святынь коснусь безжалостно и смело,
В ответ запретных слов спрошу, — и получу .
(I, 493–494)
Анненский понимает метаязыковой характер брюсовской эротики: «Во всяком случае, если для физиолога является установленным фактом близость центров речи и полового чувства, то эти стихи Брюсова, благодаря интуиции поэта, получают для нас новый и глубокий смысл. <���…> Не здесь ли ключ к эротике Брюсова, которая освещает нам не столько половую любовь, сколько процесс творчества, т. е. священную игру словами».
В отличие от Бродского, Хлебников везде найдет себе место: можно вести карточную «Игру в аду», а можно трудиться в раю, важен результат — виктория, победа:
Игра в аду и труд в раю —
Хорошеуки первые уроки.
Помнишь, мы вместе
Грызли, как мыши,
Непрозрачное время ?
Сим победиши!
(«Алеше Крученых»)
Время, по Хлебникову, — это «мера мира», но особая мера, которая есть искомая дыра, rima, в настиле мира, что прогрызают поэты, подобные мышам.
Ключевой для поэтической мифологии мыши в Серебряном веке явилась статья Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь» (1911). Уже в «Поверх барьеров» Пастернака алчные стада грызунов активно вживаются в речную стихию речи, движутся кровяными шариками в артериях кровоснабжающейся системы поэтического тела. Они заняты строительством первоматерии, «Materia P rima ». Так и называется стихотворение 1914 года:
Чужими кровями сдабривавший
Свою, оглушенный поэт, —
Окно на Софийскую набережную,
Не в этом ли весь секрет?
Окно на Софийскую набережную,
Но только о речке запой,
Твои кровяные шарики,
Кусаясь, пускаются за реку,
Как крысы на водопой.
Волненье дарит обмолвкой.
Обмолвясь словом: река,
Открыл ты не форточку,
Открыл мышеловку,
К реке прошмыгнули мышиные мордочки
С пастью не одного пасюка.
Сколько жадных моих кровинок
В крови облаков и помоев и будней
Ползут в эти поры домой, приблудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав!
И когда я танцую от боли
Или пью за ваше здоровье,
Все то же: свирепствует свист в подпольи,
Свистят мокроусые крови в крови.
(I, 467)
Гематологическая функция мышей-Муз — основа для «Сестры моей — жизни». Второе стихотворение сборника выступает в роли гида для читателя, отправляющегося в путешествие по всей книге, и рассказывает о специфических свойствах автора. Итак, «Про эти стихи»:
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам. <���…>
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.
(I, 110)
Чтоб истолковать эти стихи, потребуется присмотр к мельчайшим подробностям поэтического хозяйства. Нужно истолочь стих, как стекло, крошкой которого изводят грызунов. Но пастернаковские мыши в полном здравии и питаются крупой поэзии. Истолченным солнечным стеклом автор кормит… жизнь, которая открывается, распахивается из сырого и темного угла — в Рождество. И пока хозяин пьет и курит с Байроном и По, мыши, как первопроходцы, протаптывают тропку к двери, «к дыре, засыпанной крупой». Только вооружившись горечью вермута, испытав муки ада (рай бессилен!) и проникнув первичным трепетом вселенной, поэт познает вершины Дарьяльского ущелья.
Рифменная красавица «Второго рождения» — того же рода. Ее «стать и суть» — в эротической природе стиха. Здесь, как и в стихотворении «Про эти стихи», ингридиенты берутся пополам и по полам . Набоковский рассказ «Красавица», написан летом 1934 года по стопам «двурушнического» «Второго рождения». Его героиня — воплощение рифменного строя: «С жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения, она писала — патриотические, шуточные, какие угодно — стихи». Живет она в Берлине на улице с аукающимся названием Аугсбургерштрассе, вяжет и преподает французский: «Она свободно говорила по-французски, произнося les gens (слуги) как будто рифмуя с agence и разбивая aout (август) на два слога (a-ou). Она наивно переводила русское „грабежи“ как grabuges (перебранка)…». На вопрос приятельницы, много ли у нее поклонников, она откликается: «„Нет, матушка, годы не те, — отвечала Ольга Алексеевна, — да кроме того…“ Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатилась со смеху …». Маленькая подробность касается вагины. Красавица — персонифицированная рифма, rima, эхо. Позже Набоков назвал свою «Красавицу» «занятной миниатюрой с неожиданной концовкой». Вот этот финал: «Это все. То есть, может быть, и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно не известно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки: „Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель“».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу