Я подозреваю, что одна из причин того, что история о технологическом прогрессе продолжает сохранять такую силу, состоит в том, что она придает литературную форму мифу о поиске, который мы уже не можем воспринимать серьезно. Машины выражают и определяют себя на фоне хаоса органической природы, мира, законы и пределы которого они одновременно используют и преодолевают посредством контроля, управления и скорости. Как показал Дэвид Ноубл, западный образ технологического прогресса восходит к глубоко христианским идеям власти и милленаристского перфекционизма. Странствующий рыцарь средневекового знания превратился в человека-машину, его Грааль теперь — Сингулярность, которая, как утверждают визионеры из числа инженеров, ожидает нас прямо за горизонтом, сияющая точка технологической конвергенции, которая в конце концов овладеет законами познанного.
Если неумолимый вектор технологического развития воплощает героический нарратив власти, господства и самоопределения, что означает тот факт, что этот в конечном счете фаллический поиск теперь оказывается в хаотических постмодернистских техноджунглях, характеризующихся масштабным и невероятно запутанным пересечением сетей? Сети, которые овладели технологическим, научным и культурным дискурсами и практиками, — коммуникационные сети, когнитивные нейронные сети, связанные между собой компьютеры, параллельные процессоры, сложные институциональные рамки, транснациональные цепи производства и торговли, — все это не линейные векторы или постоянные проявления контроля. Это сложные переплетения, пересечения сетей, сложные ткани из непредсказуемых и полуавтономных нитей. Сеть — это матрица, лоно, мать-материя, которая порождает всех нас, и эта матрица существовала всегда. Несмотря на его биологические корни, само это слово обозначает множество технологических инструментов и практик: форма или матрица для литья металла; связующая субстанция, например цемент или бетон, или основной металл в сплаве; пластина, используемая для отливки печатных форм; прямоугольная сетка математических величин, рассматриваемых как один алгебраический объект; и, конечно, плотная структура соединений, связывающих компьютерные системы. Матрица формирует контекст возникновения, она есть средство, материнская плата, через которую прорастают события, объекты и новые связи.
Очевидно, современные технологические матрицы не могут быть охарактеризованы просто как «женские» пространства или возрождение способа действия матери-природы. Такие системы вполне способны поддерживать линейные цели индивидуального возвышения, иерархического управления и патриархальной власти — не говоря уже о войне. Тем не менее, если мы позволим себе пару глотков ликера духа времени, вряд ли покажется случайным, что сеть становится преобладающим технологическим архетипом именно тогда, когда в обществе имеют место рост экологической активности, глубинная экология, гипотеза о Гее и религия Богини, не говоря о экстраординарном успехе современного феминизма, который освободил женщин на рабочем месте и породил непрерывную критику деспотического социального устройства, которое так долго подкрепляло претензии Запада на прогресс просвещения.
В своей книге «Нули + единицы» Сади Плант раскрывает тайную историю женщин и машин, блестяще переписывая историю социальных технологий как киберфе-министскую историю: «не метафорическое и не буквальное, но всего лишь просто материальное собрание нитей, которые вьются сквозь историю компьютеров, технологии, наук и искусств» 269. Книга Плант, вдохновленная древним женским трудом на ткацком станке, представляет собой безумное одеяло истории и постмодернистской футурологии, которое движется взад-вперед от ведьм к телефонным операторам, от текстильного производства к онлайновой сексуальности. Плант уделяет особое внимание Аде Лавлейс, дочери поэта лорда Байрона. В середине XIX века Лавлейс стала первым в мире компьютерным программистом, когда проанализировала и описала вычислительные возможности так и не завершенной аналитической машины Чарльза Бэббиджа, приспособления, которое, как утверждала Лавлейс, «ткет алгебраические модели точно так же, как жаккардовский станок ткет цветы и листья» 270. История технологий, кажется, выбрасывает нас на неожиданный берег: не в мир Одиссея с его многочисленными затеями, но в мир Пенелопы, ждущей у своего ткацкого станка, ткущей и распускающей бесконечную ткань, чтобы разрушить хитрости мужчин.
Читать дальше
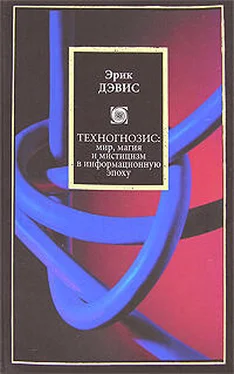


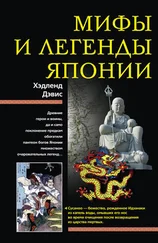



![Эрик Л’Ом - Магия невидимого острова [litres]](/books/423003/erik-l-om-magiya-nevidimogo-ostrova-litres-thumb.webp)




