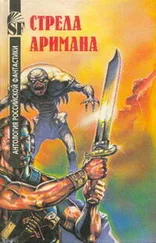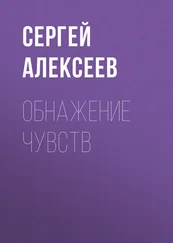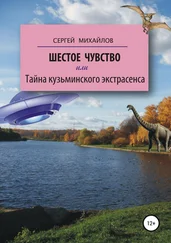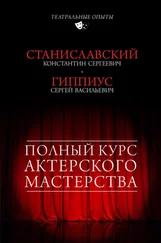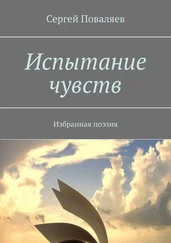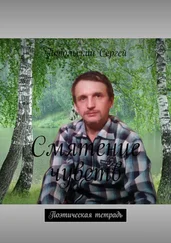А главное-"незнаемое", как известно, это не синоним "непознаваемого". Незнаемое- может быть исходной точкой в процессе познания.
Неталантливому актеру не помогут никакие законы творческого процесса. Но эт законы помогут одаренному актеру проявить талант и развить его.
Талант/ по энциклопедическому определению,-"высокая степень одаренности, то ест такого сочетания способностей, которое обеспечивает человеку возможност наиболее успешного осуществления той или иной деятельности". Эта ясная формул далека от зыбких определений прежних лет, когда талант именовался божьим даром, божьей искрой. Всемогущий бог непо" стижимым образом возжигает божественну искру- что же тут можно исследовать? Грех и думать! От тех времен досталась на в наследство неизжитая до сих пор боязнь исследовать психофизиологическу структуру таланта, условия его возникновения, особенности его развития, возможности его совершенствования.
Времена идеализма прошли, а миф о непознаваемости творческого процесса живет п инерции до сего дня. Божественные корни подрублены, но кой-какая пища, врод истории сороконожки, еще поддерживает гальванически его существование. Живучи миф о невозможности психофизиологически обосновать законы творческого процесса, законы творческого проявления таланта, очень мешает прогрессу науки о театре, основы которой заложены трудами К. С. Станиславского.
В книге "Актерское искусство в России" Б. Алперс пишет о Станиславском, которы ".. .тайну целостной личности художника, тайну своих подвижнических искани истины на дорогах жизни и искусства оставил неразгаданной. Не все в искусств укладывается в точные химические формулы. И, может быть, именно эта маленька часть, ускользающая из-под пальцев исследо--вателя, не видимая под самым сильны микроскопом, но в то же время ощущаемая всеми, как веяние воздуха, и составляе гл.авдо.е ,в искусстве, в том числе и в искусстве актера".
Все в этих красивых словах окутано старомодной идеалистической дымкой.
Существует, значит, нечто "главное" в искусстве актера, оно может "ощущаться, как веяние воздуха", но ускользает из-под пальцев, как и положено веянию, научному исследованию никак не поддается. А раз главные законы искусства н могут быть обнаружены, естественно появляется на свет "тайна личност художника", которая, как некая абсолютная истина, остается вечно недостижимой.
Отсюда недалеко до такого вывода: поскольку у каждого художника свои законы, постольку система Станиславского хороша для Станиславского, но губительна дл другого художника.
Право, когда сталкиваешься с каким-нибудь бурным и непреклонным выступлением н тему: "не хочу по системе Станиславского, хочу по Мейерхольду!"-невольн подозреваешь, что оратор неясно представляет себе как систему Станиславского, так и практику Мейерхольда. Разве система содержит рецепты, как ставит спектакли? Разве она навязывает манеру постановки? Разве натуралистическа режиссерская манера постановки, против которой, собственно, и бунтуе непреклонный оратор,-это и есть система?
Как бы отвечая такому оратору, Г. А. Товстоногов пишет в одной из своих статей:
"Каждая пьеса - замок. Но ключи к нему режиссер подбирает самостоятельно.
Сколько режиссеров - столько ключей". И в другой статье: "Чем условнее среда, которой происходит действие, тем достовернее должно быть бытие артиста.
Благодаря достоверному бытию артиста условная среда становится в сознани зрителя безусловной и достоверной".
Достоверное бытие артиста-вот чему служит система. Быть художественн достоверным, органичным и всегда разным в любой из реалистических постановочны манер любого режиссера, в любом стилистическом ключе, продиктованном авторо пьесы - вот в чем помогает артисту система Станиславского.
Нельзя догматически отождествлять систему со всей, почти семидесятилетней, деятельностью МХАТа. История взаимоотношений Станиславского со МХАТом и взаимоотношений теории системы с практикой этого У театра еще ждет своего исследователя, который счистит юбилейный глянец с событий и раскроет жизнь Художественного театра во всей сложности его побед и поражений.
До сих пор живет распространенное заблуждение, что "актеру вредна теория".
Говорят, так считал Станиславский.
Если выдирать из контекста отдельные цитаты, можно оправдать ими все что угодно, даже отрицание Станиславским роли науки. Но не закономерно ли, что он, исследу теорию творческого процесса, изучал труды Сеченова и Павлова, а Павлов, исследу физиологические основы человеческого поведения, интересовался работам Станиславского о творчестве актера?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу