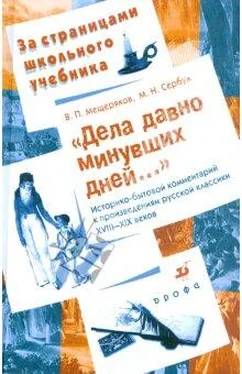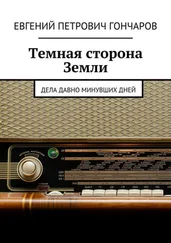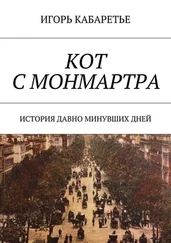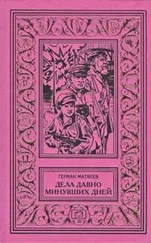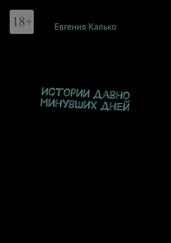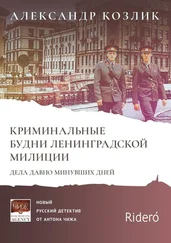Чернышевский обосновал теорию «разумного эгоизма» в статье «Антропологический принцип в философии» (1860) и наглядно воплотил ее в романе «Что делать?» (1863), герои которого («новые люди») свои отношения строят на принципах этой теории. Ю. Прозоров отмечает, что в диалогах Лопухова и Веры Павловны, героев романа «Что делать?», неоднократно повторяются положения «Антропологического принципа…», а среди книг, которые Лопухов приносит Вере Павловне, на первом месте находятся «Лекции о сущности религии» Фейербаха и «Судьба общества» фурьериста В. Консидерана.
Эгоизм для Чернышевского является чувством этически нейтральным, неотъемлемым свойством человеческой натуры.
Но природа наделила человека и разумом, чьи возможности безграничны. С помощью разума человек открывает для себя истину, что наиболее полезным и выгодным для него лично будет только то, что полезно и выгодно для всего общества в целом.
Достоевский скептически отнесся к теории «разумного эгоизма», справедливо считая, что это учение в устах циников и подлецов легко опошляется. Буржуазный делец Петр Петрович Лужин философствует по поводу «личного интереса», ссылаясь при этом на «науку»: «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния».
В рассуждениях Лужина Достоевский обнажает связь между этикой «разумного эгоизма» и этикой утилитаризма И. Бентама («Деонтология, или Наука о морали», 1834), согласно которой действия и значимость людей должны оцениваться в соответствии с приносимой ими пользой (при этом в определении пользы английский моралист исходил из частного интереса человека). Достоевский еще в молодости познакомился с идеями Бентама, ощутив их буржуазно-утилитарную сущность. В письме П. Карепину от 19 сентября 1844 года он писал: «…в Петербурге более, чем где-нибудь, коммерция, покровительствуемая Бентамом». Также Достоевский мог прочитать большую статью о Бентаме, напечатанную в «Библиотеке для чтения» в 1845 году, где отмечалось, что в учении Бентама «ненасытная страсть к выгоде и ее наслаждениям …всегда сопряжена с материальной идеей – полезность».
В 1865 году в русском переводе выходит книга последователя Бентама Д. Милля «Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии». В ней автор утверждал, что мнения и желания людей, устанавливающих способы распределения общественных благ, являются необходимым результатом данного социального строя. Таким образом, существует прямая зависимость человеческих поступков от экономической формации. Эта книга и публикация «Отцов и детей» Тургенева способствовали развертыванию дискуссии об утилитарной этике на страницах журналов «Русское слово» и «Эпоха» в 1864 году («Нерешенный вопрос» Д. Писарева и «Бесплодная плодовитость» Н. Соловьева).
Обращает на себя внимание и статья Писарева «Исторические идеи Огюста Конта», [57] помещенная в «Русском слове» за 1865 год. Г. Коган увидела в рассуждениях Лужина о кафтане пародию на объяснение Писаревым в этой статье принципа личной выгоды: «Если каждый будет правильно понимать свою собственную выгоду, то, конечно, никто не будет снимать рубашку с самого себя, но зато это добродетельное снимание окажется излишним, потому что каждый будет отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вследствие этого каждая рубашка будет украшать и согревать именно то тело, которое ее выработало. Таким образом, если принцип личной выгоды будет с неуклонной последовательностью проведен во все отправления общественной жизни, то каждый будет пользоваться всем тем, и только тем, что принадлежит ему по самой строгой справедливости».
Достоевский сатирически обыграл статью Писарева «Разрушение эстетики» (1865) в рассуждениях Лебезятникова о том, что чистка помойных ям есть «деятельность, которая… гораздо выше… деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее!» В уста нигилиста Лебезятникова, по замечанию В. Кирпотина, Достоевский вкладывает слова, почерпнутые из заявлений Писарева: «Мы пошли дальше в своих убеждениях. Мы больше отрицаем! Если бы встал из гроба Добролюбов, я бы с ним поспорил. А уж Белинского закатал бы!» (У Писарева в статье «Реалисты»: «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полною откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели «Русского слова» знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Катерину, то есть – в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни. Следовательно, самые идеи Белинского уже не годятся для нашего времени».)
Читать дальше