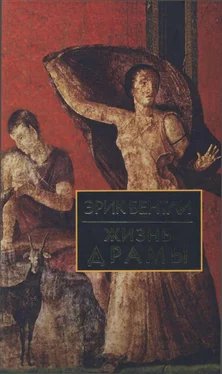Если на основе вышесказанного у читателя сложилось впечатление, что сюжетная схема автоматически избавляет художника от всяких творческих забот, то я потороплюсь развеять эту иллюзию, предложив ему сравнить творчество разных драматургов — например, использование сюжетной схемы возвышения и падения героя некоторыми елизаветинцами раннего периода с таким непревзойденным образцом в этом смысле, как «Макбет». Художник меньшего таланта вынужден в значительной степени полагаться на схему (то есть на работу, которую делают за него другие). Например, он стремится всего- навсего ускорить процесс падения. Этим способом он может придать своему произведению убедительность в глазах многочисленных сторонников мнения Вольтера, что драматург всегда должен избирать кратчайший путь к цели. На ум сразу приходят избитые фразы вроде «нестись навстречу своей судьбе» и прочие клише, используемые для рекламы кинофильмов и развлекательного чтива. Превосходство Шекспира проявляется в том, что он не разгоняет, а притормаживает Действие. Падение Макбета происходит с громадной инерцией. Такое падение производит тем более жуткое впечатление, что этой инерции противопоставлена другая сила. Благодаря этому мы наблюдаем не падение человека с отвесной стены, а медленное, дюйм за дюймом, соскальзывание со скалы в пропасть. Именно такого эффекта достигает Шекспир.
«Сырьем» для сюжета служит жизнь, но только не серенькое повседневное существование в его банальных внешних проявлениях, а, скорее, чрезвычайные обстоятельства редких жизненных кульминаций или каждодневного бытия в его сокровенных, не всегда осознаваемых формах. Драме противопоказан взгляд на жизнь, отвергающий эти чрезвычайные обстоятельства.
Построение сюжета состоит в упорядочении этого «сырого» материала, в применении того или иного рационального принципа к хаосу иррационального. Следовательно, любой сюжет имеет двойственный характер: он создается из сугубо иррационального материала, но сам процесс построения сюжета вполне рационален, интеллектуален. Интерес к сюжету, пусть даже самому элементарному, подразумевает интерес к обоим этим факторам, а еще больше — к их взаимодействию. Мы лишь с неохотой признаем наличие интеллектуального элемента, в «мыльной опере» и в прочих видах мелодрамы. Это обратная сторона нашего нежелания признать, что в произведениях высокого искусства наличествует грубо эмоциональный элемент. Впрочем, интеллектуальный элемент занимает в произведениях «низкого жанра» весьма ограниченное место — такое же, как в детских играх. Ведь игры тоже требуют подлинной изобретательности при разрешении возникающих по их ходу маленьких проблем. Сюжет в этом отношении можно уподобить шахматной доске: своей притягательностью он во многом обязан нашему пристрастию к хитроумным комбинациям.
«Всем людям от природы свойственно стремление познать», — писал Аристотель. Читая детективный рассказ, мы стремимся обнаружить «неизвестного убийцу» и, значит, поступаем как философы. У нас возникает нетерпеливое желание выяснить истину. В положительном контексте мы называем это чувство жаждой знаний, в отрицательном — назойливым любопытством, а в нейтральном — любознательностью. Изумив меня чем-то и скрыв от меня объяснение удивившего меня явления, вы возбуждаете мое любопытство. Теперь я как на угольях, пока вы меня не просветите. Вот на этих самых угольях и приготовляют примитивное драматургическое варево. Все держится в таких пьесах на напряженном ожидании. Когда об авторах этих пьес говорят, что они «умело закручивают сюжет», это означает, что они ловко играют на зрительских чувствах изумления и нетерпеливого ожидания.
Однако далеко не все драматургические произведения характеризуются «умелой закруткой сюжета» в вышеуказанном смысле, а те произведения, которые характеризуются ею, по большей части принадлежат к числу второсортных. Первоклассная драматургия преследует иную цель, чем построение сюжета. Теория, утверждающая прямо противоположное, «выводится» из учения Аристотеля вопреки ясно выраженному намерению последнего. Ведь даже в тех случаях, когда Аристотель рассуждает о таких сюжетных приемах, как «перипетия» и «узнавание», называя их «сильнейшими средствами эмоционального интереса», не подлежит сомнению, что он имеет в виду нечто значительно большее, чем простое чувство любопытства. Аристотель говорит о зрителях, которые «содрогаются от ужаса и размягчаются от сострадания». Чувство ужаса (страха) и чувство сострадания упоминаются в самом известном, хотя и не самом ясном из всех высказываний Аристотеля — высказывании о том, что путем сострадания и страха в трагедии совершается «очищение подобных аффектов». Здесь нам достаточно будет отметить, что, какие бы разнообразные толкования ни давались этой фразе, никому еще не приходило в голову попытаться свести ее смысл к защите драмы, рассчитанной только на то, чтобы «заинтересовать» (или возбудить любопытство).
Читать дальше