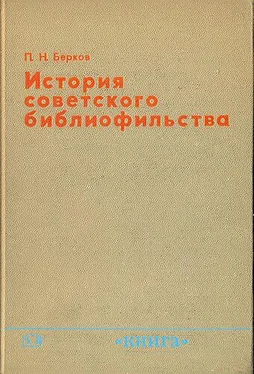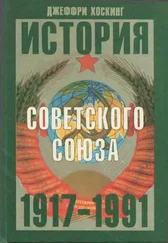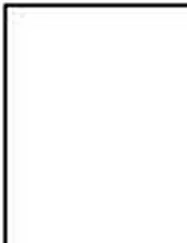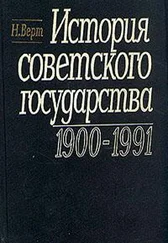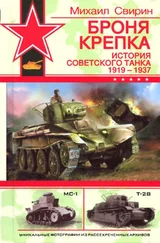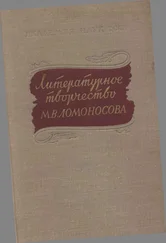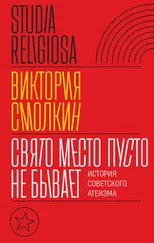Во второй части статьи Е. Е. Тимошенко приводит фамилии ряда подобных ему энтузиастов-пропагандистов книги, создавших в селах, колхозах, где они живут, библиотеки на свои средства или на общественных началах.
В заключение статьи Е. Е. Тимошенко предлагает «всем таким книголюбам поддерживать между собою связь и, может быть, даже встретиться для обмена мнениями и опытом работы с читателями» (163).
Следует всячески приветствовать благотворную, просветительскую деятельность Е. Е. Тимошенко и его единомышленников. И можно бы было приветствовать его статью еще больше, если бы она в своей полемической части, о которой будет сказано несколько ниже, не повторяла совершенно устарелой, в известной мере демагогической аргументации первого пореволюционного десятилетия.
Чтобы наша мысль стала вполне понятной, мы ограничимся сказанным о первом направлении в современном советском книголюбии и перейдем ко второму, — к направлению книголюбов-библиофилов.
Мы уже приводили выше слова А. Т. Твардовского о новом типе советского читателя — о читателе-собирателе (161; 162). Однако такой новый читатель не ограничивается одним лишь собиранием того, что попадает в его руки случайно или в результате целеустремленных поисков. Такой читатель-книголюб посещает регулярно книжные магазины, следит за тематическими планами и всевозможными проспектами издательств, пишет письма в редакции газет и директорам издательств, требует включения в перспективные планы тех или иных книг и повышения тиражей изданий, негодует на не всегда удовлетворительную работу магазинов «Книга — почтой», предлагает восстановить книжные «развалы», уличные книжные ларьки, открыть букинистические магазины, улучшить работу магазинов по предварительным заказам — почтовым карточкам, и т. д.
Часты случаи, когда при каком-нибудь хорошо работающем книжном магазине, — например, «Буревестник» и «Молодой Ленинград», — возникает литературный клуб, в котором покупатели обсуждают новые книги молодых ленинградских поэтов и прозаиков, организуют вечера зарубежной поэзии и выступления участников литературных кружков на близлежащих предприятиях. Известны такие же магазины-клубы в Минске и других городах.
Таких читателей-собирателей у нас, как предполагает А. К. Гладков в чрезвычайно интересной статье «Страна читателей», «наверняка несколько миллионов» (32). Жаль только, что автор настойчиво противополагает «собирателей-коллекционеров» «книжным собирателям обычного типа». В начале статьи А. К. Гладков вспоминает, как он в своей библиотеке нашел книжечку, оставшуюся ему от отца, и пишет: «Почему эта книга привлекла мое внимание? Сентиментальная память об отце? Возможно, но думается, что дело все же и не в этом. Просто я верю в то, что вокруг каждой книги читанной, перечитанной и бережно поставленной на полку, образуется как бы некая „аура“, как сказали бы об этом символисты: ну, скажем, особая атмосфера, словно сохраняющая в себе следы интеллектуальной работы, проделанной кем-то, читавшим эту книгу».
Мы не разделяем этой веры в «ауру», хотя и приводили выше слова В. Г. Короленко о духовной атмосфере каждой настоящей личной библиотеки и сами говорили о духовном лице библиотеки. Однако мы полагаем, что, высказав подобную мысль, А. К. Гладков должен быть последователен и ему не следует иронизировать над библиофилами, дорожащими книгами из известных старых библиотек или редкими изданиями. Он пишет: «И кому не доставит удовольствия подержать в руках томик из библиотеки Вольтера или первое издание „Евгения Онегина“… — А ведь теми же приблизительно соображениями руководствуются книгособиратели-коллекционеры, когда охотятся за экземплярами из библиотеки Ефремова или за первым изданием „Простого как мычание“ Маяковского: „эти книги были в руках Ефремова, в руках Маяковского!..“».
Между тем книголюбы-библиофилы занимаются не только собиранием и чтением приобретенных книг, но и серьезным их изучением и сообщением результатов своих исследований товарищам по клубу, секции и т. д. Я имею здесь в виду не только книги Н. П. Смирнова-Сокольского, В. Г. Лидина, О. Г. Ласунского, не только доклады и статьи А. И. Маркушевича. Вот пример из заметки «Книжные судьбы» И. Брянской в газете «Литературная Россия»; в ней сообщается о первом заседании клуба книголюбов при Центральном Доме литераторов (Москва) и приводятся сведения, частично уже изложенные нами в одной из предшествующих глав. «В годы войны в лесной типографии одного из партизанских отрядов Белоруссии была издана тиражом в 40 экземпляров книга стихов. Ее автор, партизан Всеволод Саблин, назвал этот сборник „Мститель“. А вот другая книга — „Азбука“. Владимир Маяковский не только автор этого уникального экземпляра, но и его издатель: от первой до последней страницы книга сделана руками поэта… Две редкие книги, две судьбы, и именно им был посвящен доклад С. Ляндреса на первом заседании Книжного Клуба» (22).
Читать дальше