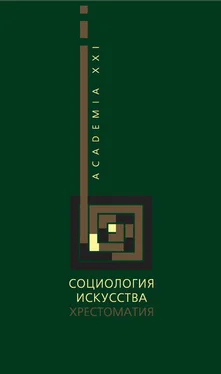То же бывает и в литературе. Большая часть драматической поэзии, весь греческий и французский классический театр, большая часть испанских и английских драм не только не представляют точной передачи обыкновенного разговора, но нарочно изменяют человеческую речь. Каждый из этих драматургов заставляет говорить своих действующих лиц стихами, вкладывает в слова их ритм, а часто и рифму. Вредит ли искусству эта неестественность выражения? Нисколько. Это всего поразительнее доказано было на одном из величайших произведений нашего времени – «Ифигении» Гёте, написанной сперва прозою и затем стихами. Она прекрасна в прозе, но какая разница в стихах! Здесь, видимо, это изменение обыкновенного языка, это введение ритма и метра придают пьесе какой-то необыкновенный отпечаток, ясную возвышенность, широкое и выдержанное трагическое пение, при звуках которого дух подымается над пошлостями обыденной жизни и видит перед своими глазами героев древних дней, забытое племя первобытных атлетов, и между ними царственную деву, истолковательницу воли богов, хранительницу законов, благодетельницу человечества, в которой сосредоточиваются вся доброта и все благородство человеческой натуры, чтобы прославить ими человечество и возвысить наше сердце.
Итак, в избранном предмете необходимо весьма близко подражать кое-чему, но не всему. Остается открыть эту именно частицу, за которой должно гоняться подражание. Я заранее отвечаю: «Это – взаимные соотношения и взаимная зависимость частей». Извините мне абстрактное определение, оно уяснится вам вскоре.
Перед вами живой образец, мужчина или женщина, и, чтобы срисовать его, у вас есть карандаш и лоскуток бумаги величиною в две ладони. Конечно, нельзя требовать от вас, чтобы вы воспроизвели его величину, – бумага ваша слишком для того мала; нельзя равным образом требовать от вас, чтобы вы передали краски, – в вашем распоряжении только два цвета: черный и белый. Вы должны лишь передать соотношения, и прежде всего пропорции, т. е. соотношения размеров. Если голова имеет такую-то длину, надо, чтобы и тело было во столько-то раз длиннее головы, рука имела бы длину, тоже зависящую от первой, нога и все остальное – равным образом. От вас требуют еще передать формы или соотношения положения: известный изгиб, овал, угол в образце должны повториться в копии соответствующей линии. Короче, дело заключается в воспроизведении совокупности тех отношений, посредством которых связаны части предмета, и только. Вы должны передать не простую внешность тела, а его, так сказать, логику.
Подобно этому, вообразите себя перед действительным характером, перед сценой из жизни реальной, простонародной или светской; вас просят описать ее. Для этого у вас есть глаза, уши, память, быть может, карандаш, которым вы можете набросать пять-шесть заметок; этого немного, но совершенно достаточно, потому что вас просят передать не все слова, не все жесты, не все действия лица или пятнадцати-двадцати лиц, вам представших. Здесь, как и там, вас просят обозначить пропорции, связь, соотношения, т. е., прежде всего, точно сохранить пропорциональность действий лица или, иначе сказать, придать первенство в своем описании тщеславным поступкам, если лицо тщеславно, скупости, если это скупой, жестокости, если оно жестоко; затем сохранить взаимную связь между этими самыми действиями, т. е. чтобы каждое, например, возражение вызывалось чем-нибудь подобным, каждое чувство, идея, решение мотивировались бы предшествующим решением, идеей, чувством и сверх того настоящим положением лица, даже еще общим характером, какой вы ему приписали. Короче, в литературном произведении, как и в произведении живописном, должно обрисовать не осязаемую внешность лиц и событий, но совокупность отношений их и взаимную зависимость, т. е. их логику. Итак, говоря вообще, все, что интересует нас в существе реальном и что мы просим художника извлечь и передать нам, – это внутренняя или внешняя логика этого существа или, другими словами, его склад, состав, соотношение частей.
Достаточно ли этого, и неужели художественные создания ограничиваются только воспроизведением отношений между частями предмета? Вовсе нет, потому что величайшие школы именно те и есть, которые всего более изменяют действительные отношения.
Обратите, например, внимание на итальянскую школу в ее величайшем художнике Микеланджело и, чтобы точнее определить ваши воззрения, припомните лучшее из его произведений: четыре мраморные статуи, поставленные во Флоренции над гробницей Медичи. Тем из вас, которые не видали оригинала, известны по крайней мере копии. Конечно, у этих людей, в особенности у этих спящих или пробуждающихся женщин, пропорциональность частей вовсе не такова, как у действительных личностей. Подобных им не найдете нигде, даже в Италии. Эти типы Микеланджело открыл в собственном своем гении и в собственном своем сердце. Чтобы создать их, нужна была душа отшельника, созерцателя, правдолюбца, душа пылкая и благородная, затерявшаяся посреди изнеженных и развращенных душ, посреди измен и гнета, перед неотвратимым торжеством тирании и несправедливости, под развалинами свободы и отечества; самому художнику надлежало стоять под угрозой смерти, чувствовать, что если дарована жизнь, то лишь из милости, да и то, пожалуй, ненадолго, быть неспособным гнуться и подчиняться, а, напротив, отдаться всецело искусству, которое одно еще, посреди рабского молчания, давало возможность высказаться его великому сердцу и его отчаянию. Он написал на пьедестале своей спящей статуи: «Сладко спать, а еще слаще окаменеть в час бедствий и позора. Не видеть ничего, не чувствовать – вот мое блаженство; так не буди же меня. Ах, говори тише!» Вот чувство, открывшее ему подобные формы. Чтобы выразить его, он нарушил обыкновенные размеры, удлинил туловище и члены, свернул торс на бедре, глубоко прорыл глазные впадины, избороздил лоб морщинами, подобно сжатым бровям льва, поднял на плече целую гору мускулов, выдвинул на хребте сухие жилы и так крепко сомкнутые позвонки, что они похожи на туго натянутую железную цепь, готовую лопнуть. <���…>
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу