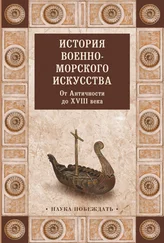Высшая красота лишена характерности; но она лишена ее так же, как лишено определенных размеров мироздание, которое не обладает ни длиной, ни шириной, ни глубиной, потому что все они содержатся в нем в равной бесконечности, как лишено формы искусство творящей природы, поскольку оно само не подчинено форме. Именно в этом, а не в каком-либо ином смысле мы вправе утверждать, что эллинское искусство в его высшем выражении поднимается до отсутствия характерного. Однако это не было его непосредственной целью. Освободившись от уз природы, оно достигло божественной свободы. Но подобные героические ростки могли появиться не из брошенного на поверхность земли семени, а из глубоко скрытой сердцевины. Лишь мощные порывы чувств, лишь глубокое потрясение воображения, вызванное воздействием всеоживляющих, всепроникающих сил природы, могли придать искусству ту неодолимую силу, с которой оно всегда – начиная от застывшей, замкнутой строгости произведений раннего времени до творений, преисполненных чувственной грации, – оставалось верным истине и духовно порождало ту высшую реальность, которую дано созерцать смертным.
Внешнюю сторону или основу всякой красоты составляет красота формы. Но поскольку формы без сущности не бывает, то повсюду, где есть форма, зримо или только ощутимо присутствует и характерность. Поэтому характерная красота есть красота в ее корне, из которого только и может подняться красота в качестве плода; сущность, правда, перерастает форму, но и тогда характерность остается все еще действенной основой прекрасного.
Достойнейший ценитель, которому боги даровали царство природы и искусства, уподобляет характерное в его отношении к красоте скелету в его отношении к живому образу. Толкуя это меткое уподобление в нашем понимании, мы сказали бы, что в природе скелет не отделен, как в наших мыслях, от живого целого, что твердое и мягкое, определяющее и определяемое взаимно предполагают друг друга и могут быть только вместе, что именно поэтому характерное в жизни уже есть весь образ в целом, возникший из взаимодействия костей и мяса, деятельного и страдательного. Хотя искусство, как и природа, оттесняет на высших ступенях своего развития зримый вначале костяк вовнутрь, он не может быть противопоставлен образу и красоте, так как никогда не перестает определяюще воздействовать как на одного, так и на другую.
Может ли подобная высокая и безучастная красота служить также единственным мерилом в искусстве, подобно тому как она служит в нем наивысшим мерилом, должно, по-видимому, зависеть от степени распространения и полноты, с которой способно воздействовать определенное искусство. Ведь природа в ее обширной сфере всегда представляет высшее вместе с низшим: создавая в человеке божественное, она вырабатывает во всех остальных продуктах только его материал и основу, необходимую для того, чтобы в противоположность ей сущность явила себя как таковая. Ведь и в высшем мире, мире человека, масса вновь становится основой, для того чтобы божественное, содержащееся лишь в немногих, могло проявиться посредством законодательства, господства, вероисповедания. Поэтому в тех случаях, когда искусство приближается в своем воздействии к многообразию природы, оно может и должно показать в своих творениях наряду с высшей красотой и ее основу, как бы ее материал. Здесь впервые во всем ее значении проявляется различная природа отдельных видов искусства. Пластика в точном значении этого слова пренебрегает возможностью предоставить своему предмету внешнее пространство: он несет его в себе. Однако именно это препятствует ее распространению, она вынуждена показывать красоту мироздания едва ли не в одной точке. Поэтому ей приходится непосредственно стремиться к наивысшему, и многообразия она может достигнуть лишь в его разделении и посредством строжайшего исключения сопротивляющегося друг другу. Посредством обособления чисто животного в человеческой природе ей удается создавать гармоничными, даже прекрасными и образы низших существ, о чем свидетельствует красота многих сохранившихся с древних времен фавнов. Если бы в большом произведении живописи, где образы связываются пространственным соотношением, светотенью, различными световыми бликами, художник повсюду стремился бы достигнуть высшей красоты, то результатом оказалась бы самая противоестественная монотонность, поскольку, как говорит Винкельман, высшее понятие красоты всегда одно и то же и не допускает многочисленных отклонений. Единичное получило бы предпочтение перед целым, тогда как повсюду, где целое возникает из множества, единичное должно быть подчинено целому. Поэтому в таком произведении необходимо соблюдать градации прекрасного, только тогда концентрированная в средоточии красота станет зримой во всей ее полноте и из преизбытка единичного возникнет гармония целого. Тогда здесь найдет свое место и ограниченно характерное, и теория уже во всяком случае должна обращать внимание художника не столько на узкое пространство, где концентрировано все прекрасное, сколько на характерность в многообразии природы, которая только и может помочь ему придать большому произведению полноту жизненного содержания. Именно так мыслил среди создателей нового искусства великий Леонардо, а равно и творец высокой красоты Рафаэль, который не боялся изображать и меньшую степень красоты, чтобы только не оказаться в своих творениях монотонным, безжизненным и неподлинным, несмотря на то что он умел не только создавать красоту, но и нарушать ее равномерность различием в выражении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу