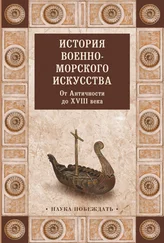Будучи утратой стиля, романтизм есть в то же время сознание его необходимости. Он – воля к искусству, постоянно парализуемая пониманием существа искусства. Вот почему он и есть подлинный «mal du siecle», болезнь девятнадцатого века, – высокая болезнь. Болели ею не малые, а великие души, не посредственности, а гении. Какой поэт, достойный этого имени, ею не был заражен в послегётевской, послепушкинской Европе? Какой художник не боролся с ней и не жертвовал частью своей личности, чтобы восстановить нарушенное равновесие своего искусства? Боратынский и Тютчев, Лермонтов и Блок обязаны ей неугасимым огнем своего творчества. Все поэты девятнадцатого века – романтические поэты, наследники Гельдерлина и Клейста, Кольриджа и Китса, Леопарди и Бодлера. Всякая борьба с романтизмом велась только во имя одного его облика против другого: Флобер не меньший романтик, чем Шатобриан, и Толстой в своих взглядах на искусство лишь до последнего предела обострил (и упростил) романтический мятеж человека против художника. Романтиками в одинаковой мере были Энгр и Делакруа, Ганс фон Маре, Врубель и Сезанн, Вагнер и Верди, Мусоргский и Цезарь Франк. Романтизм жив и сейчас и не может умереть, пока не умерло искусство и не исцелено одиночество творящей личности. Если бы он исчез без одновременного восстановления стилистических единств, без возврата художника на его духовную родину, это могло бы означать только гибель самого искусства. Отмахнуться от прошлого нельзя, и напрасно презирать болезнь, которой не находишь исцеления. Этот неуклюжий, тяжелодумный век, без молодости, без веры, без надежды, без целостного знания о жизни и душе, разорванный, полный воспоминаний и предчувствий; век небывалого одиночества художника, когда рушились все преграды и все опоры стиля, погибла круговая порука вкуса и ремесла, единство художественных деятельностей стало воспоминанием и творческому человеку перестал быть слышен ответ других людей; этот век был веком великих музыкантов, живописцев и поэтов, видел парадоксальный, мучительный расцвет музыки, живописи, поэзии, отрешенных от всего другого, не знающих ни о чем, кроме себя. Многое было у него, только не было архитектуры, не было целого, оправдывающего все, и великое, и малое; и пока этого целого нет у нас, мы сами, хотим мы того или не хотим, продолжаем наше прошлое, наследуем ему, несем на себе его тяжесть, его рок, остаемся людьми девятнадцатого века. <���…>
Необходимые условия художественного творчества стали недосягаемой мечтой. Целое столетие архитекторы тщетно искали архитектуру. Они продолжают искать ее и теперь, но все решительней обращаясь от архитектуры стилизующей к архитектуре, начисто обходящейся без стиля, к так называемому рациональному или функциональному строительству, к «машине для жилья» Ле Корбюзье. Сходное развитие, хотя и в более медленном темпе, наблюдается в области прикладных искусств. Все больше распространяется отвращение к подделке. Требование добротности и удобства сменяет требование роскоши. При этом добротность смешивают с рыночной ценой материала (например, когда золото или серебро заменяют платиной); вещи драгоценные, переставая быть роскошными вещами, становятся лишь символом кошелька. От вещей хотят простоты, но не простоты художественной – свойственной классическому стилю, – а простоты, не ищущей искусства и только потому не противоречащей ему. Пожалуй, правда: только то, что еще не было искусством, может стать искусством в будущем; однако отказ от стилизации есть необходимое, но еще недостаточное условие для рождения целостного стиля. Целесообразность, вопреки мнению стольких наших современников, еще никогда не творила искусства и сама собой не слагалась в стиль. Оголенно утилитарное здание и очищенные от украшений предметы обихода, как их все чаще предлагают нам, могут не оскорблять художественного чувства, но это еще не значит, что они его питают. Даже когда они ему льстят – например, пропорциями и линиями современного автомобиля, – они от этого искусством не становятся. Существует красота машины: осязаемый результат интеллектуально совершенной математической выкладки; но красота еще не делает искусства – особенно такая красота. Удовлетворение, даваемое точностью расчета, может входить в замысел архитектора (например, строителя готического собора), но не из нее одной этот замысел состоит. В искусстве есть не только разум, но и душа; целое в нем непостижимым образом предшествует частям; искусство есть живая целостность. Огромное строение и мельчайший узор получают свой смысл, свое оправдание, свое человеческое тепло из питающего их высшего духовного единства. Пока его нет, не будет ни архитектуры, ни прикладных искусств, ни сколько-нибудь здоровых условий для жизни искусства вообще; и нельзя его заменить другим – техническим, рассудочным единством. В механической архитектуре, уже начавшей подчинять себе другие искусства, есть единообразие, которого не знал XIX век, но это единство стандарта, штампа (хотя бы в своем роде и совершенного) – не стиля. Стандарт рационален; но только стиль одухотворен. <���…>
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу