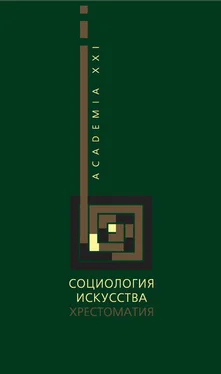Степень автономии поля ограниченного производства определяется его способностью производить и навязывать нормы своего производства и критерии оценки собственной продукции, т. е. способностью переводить и реинтерпретировать все внешние определения в соответствии со своими принципами. Иначе говоря, чем более поле способно функционировать как замкнутое поле конкурентной борьбы за культурную легитимность, т. е. за чисто культурное признание и за чисто культурную возможность ее обеспечивать, тем более принципы, по которым осуществляется внутреннее деление, предстают как не сводимые к любым внешним принципам деления, таким, как факторы экономической, социальной или политической дифференциации: происхождение, богатство, власть (даже если речь идет о власти, способной реализоваться непосредственно в поле), а также политические позиции.
Показательно, что движение поля ограниченного производства к автономии отмечается тенденцией, согласно которой критика (рекрутируемая в значительной мере внутри самого корпуса производителей) ставит себе задачей не создавать инструменты для освоения произведения, потребность в которых все более возрастает, а обеспечивать «творческую» интерпретацию для пользования самих «творцов». Таким образом создаются общества «взаимного восхищения», мелкие секты, замкнутые в своем эзотеризме, наряду с появлением признаков новой солидарности между художником и критиком. Не чувствуя себя более вправе выносить суждения от имени неопровержимого кодекса, эта новая критика начинает служить художнику, занимаясь тщательной расшифровкой его намерений. Если производители (интеллектуалы, художники или ученые) всегда смотрят с некоторым подозрением, что не исключает, впрочем, тайного восхищения, на произведения и авторов, которые ищут и обретают шумный успех, а иногда доходят даже до того, что провал в этом мире рассматривают как гарантию – по крайней мере негативную – признания в мире ином, то, в частности, потому, что вторжение «широкой публики» по природе своей угрожает притязанию поля на монополию права на культурное признание. Таким образом, расхождения между внешней иерархией (по признаку «публичного» успеха, измеряемого выручкой от продажи или степенью известности вне круга производителей) и внутренней иерархией (по признанию внутри конкурентной группы равных) безусловно служат лучшим индикатором автономии поля ограниченного производства, т. е. разрыва между принципами оценок, свойственных полю, и теми, с которыми подходит к его продукции «широкая публика».
Никогда еще не были полностью осмыслены все последствия, которые вытекают из того факта, что писатель, художник или ученый создают не только для публики, но и для круга равных, которые являются одновременно и конкурентами. Редко кто из социальных агентов в той же мере, в какой художники и интеллектуалы, в их представлениях о себе и, соответственно, о том, что они делают, зависели бы от представлений, которые другие, и в особенности другие писатели и другие художники, имеют о них и о том, что они делают. «Существуют способности, которыми мы обладаем только благодаря оценке другого». Это относится и к способности писателя, художника или ученого, которую трудно определить только потому, что она существует лишь в форме кооптации и через нее, как круговая порука взаимного признания между коллегами. В любом акте культурного производства наличествует притязание на культурную легитимность. Когда идет борьба между различными производителями, то она ведется также и за право на истинность, или, словами Вебера, на монополию легитимного манипулирования определенным классом символических благ. Когда же признание достигнуто, то это означает, что признано и их притязание на истинность. Тот факт, что оппозиции или разногласия спонтанно выражаются на языке взаимного отторжения, свидетельствует о том, что истинность никогда не может господствовать в поле ограниченного производства без того, чтобы в нем постоянно не стоял вопрос об истинности, т. е. вопрос о критериях легитимного осуществления определенного типа культурной практики. Из этого следует, что степень автономии поля ограниченного производства измеряется его способностью функционировать в качестве специфического рынка, создающего определенный тип раритета[и тип ценности, не сводимый, помимо всего прочего, к экономическому раритету и экономической ценности рассматриваемых благ и даже к раритету и ценности чисто культурного порядка. Иначе говоря, чем более поле может функционировать как место конкурентной борьбы за культурную легитимность, тем более его производство может и должно быть ориентировано на поиски черт, культурно соответствующих данному состоянию определенного поля, а именно на поиски тем, техники и стилей, которые наделены ценностью в самой структуре поля в силу того, что способны придавать группам, которые их производят, чисто культурную ценность, наделяя их дистанцирующими признаками (специализация, манера, стиль), которые могут быть восприняты и признаны таковыми в зависимости от имеющихся в наличии культурных таксономий. Таким образом, именно закон поля, а вовсе не врожденный порок, как иногда считается, втягивает производителей в диалектику дистанцирования, которую путают с поисками во что бы то ни стало любого отличия, позволяющего вырваться из состояния анонимности и незначительности. Тот же самый закон, который принуждает к поискам дистанцирования, навязывает и рамки, внутри которых поиски могут вестись легитимно. Так, резкость, с которой корпус производителей осуждает всякую попытку, технически предполагающую непризнаваемые способы дистанцирования и, следовательно, заведомо обесцениваемую до разряда простых уловок, а также его настороженное внимание к замыслам самых революционных групп свидетельствуют, что корпус производителей может утверждать свою автономию лишь при условии контроля над диалектикой дистанцирования, которой постоянно угрожает опасность деградировать до состояния патологических поисков различения любой ценой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу