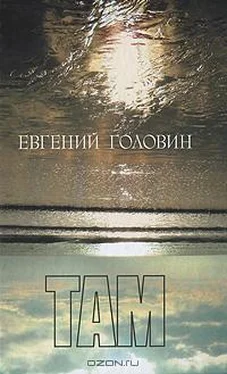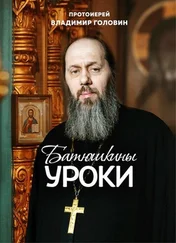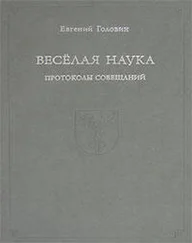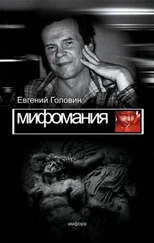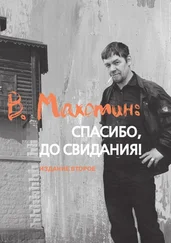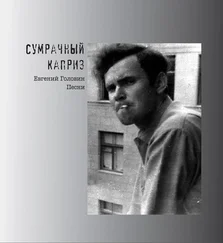Аналогичную ситуацию переживает любовь. Она вспыхивает в «расцвет мгновения»,
когда время пропадает или увядает. «Расцвет мгновения» — тоже имя , которое проступает при восходе солнца. Обычное разделение времени на «До» и «После» исчезает, «Тотчас» устраняет «После» и устанавливает свой ослепительный режим. Это форма времени рождает любовь и пока она царит, времени не существует. Судя по стихотворению Хорхе Гильена, солнце оживляет формы слов и вещей, чего нельзя сказать про газовый и электрический свет, чья мертвящая атмосфера набрасывает патину однозначности на объекты окружающего мира. Если солнце заходит — остается воспоминание о солнце: «Ресницы сомкнулись. Горизонту конец. Может быть, нет? Но остаются имена.» Пока остается воспоминание о солнце на вещах или в чьей-нибудь светлой голове, остаются имена — жизнь вещей в их первозданности. Вещи не умирают в смысле тотального уничтожения, но трансформируются под влиянием лунного света или собственного взаимодействия. Этот процесс жесток и мучителен. Ф. Гарсиа Лорка «Смерть».
Сколь тягостно!
Сколь тягостно лошади стать собакой!
Сколь тягостно собаке стать ласточкой!
Сколь тягостно ласточке стать пчелой!
Сколь тягостно пчеле стать лошадью!
И лошадь
сколь стрелоостро вытягивается из розы,
и сколь серая роза выпадает из ее зубов!
И роза,
сколько суеты бликов и криков
расцвечивают живой сахар ее стебля!
И сахар,
сколько лезвий снится ему в пробуждении!
И ножи,
что за луна без стойла, сколько обнаженности
в поисках вечного пурпура!
И я, под кровлями,
какого пламенного ищу ангела и я сам!
Но гипсовый лук
сколь велик, сколь невидим, сколь минимален!
совершенно без тягости.
Тягостны превращения вещей, поскольку меняется имя, форма. Лорка представил замедленный процесс метафорического действия. Стихотворение есть перечисление метафор: лошадь — собака; собака — ласточка; ласточка — пчела…до метафоры; лошадь — гипсовый лук. Текст допускает множество толкований: от мучительного превращения лошади в кентавра до метафорического перерождения одной вещи в другую. Такова композиция произведения: одна цельная метафора делится на несколько дробных. Таково чудо метафорической трансформации. Трудно найти в обычном вербальном значении нечто общее меж собакой, ласточкой и пчелой, да и как они, соединившись, составят лошадь? Но имена слов сочетаются, переходят, перетекают друг в друга, ибо они не связаны законами логики. Обычная поэзия строит фразы, равно как и проза, по стандартным грамматическим правилам, так как полагает слова знаками вещей, оторванными от вещей. Имена допускают полную свободу, любые варианты, потому поэзия сюрреализма, лишенная обязательности социальных, идеологических и психологических конвенций, производит впечатление либо полного абсурда, либо непринужденной игры. «Поэзия делается из слов, а не из мыслей», — эта максима Малларме восторжествовала в новой лирике. Неудивительно, «что лошадь стрелоостро вытягивается из розы, и серая роза выпадает из ее зубов.» Неудивительно, что «сахару стебля розы снятся в пробуждении лезвия ножей.»
И ножи? Они пребывают без ножен, «как луна без стойла» и жаждут крови. «Сколько обнаженности в поисках вечного пурпура!» Но серия метафор трансформирует лошадь в кентавра и тягость в легкость. Сам поэт вовлекается в процесс метафоризации. Какого пламенного ангела ищу я сам? Не в том смысле, что он хочет стать ангелом. Он участвует в общей трансформации, он — ласточка и пчела, он — стрелоострый стебель, которому снятся лезвия, неизвестно, куда бы его затянуло метафорическое движение? Но в желании лошади достигнуть уровня кентавра он может всего лишь почувствовать парадоксальный гипсовый лук. Этот лук «велик, невидим, минимален, совершенно без тягости.» Это имя , а не слово.
Личные местоимения в современной лирике
От Катулла до Готфрида Бенна поэзия так или иначе отражала «я». Без «я» — простого, делового, бытового, административного, официального, тайного, словом, художественного «я» стихотворение было немыслимо. Для подчеркивания скрытости или отдаленности «я» заменялось на «ты» или «он», для выражения воображаемого единомыслия с читателем «я» растворялось в «мы». Для передачи сложности или распада личности появлялось второе «я», как в строках испанского поэта Хуана Рамона Хименеса:
Читать дальше