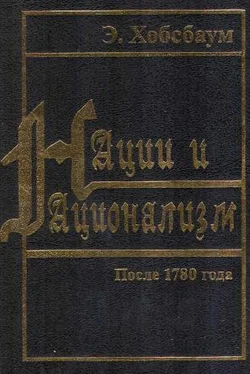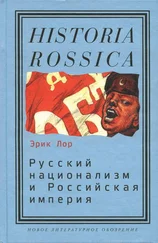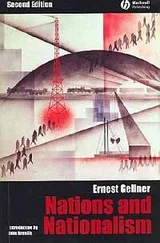преобразование общества в интересах беднейших граждан («дома для героев»). Таким образом, сам по себе процесс демократизации помогал государствам и правительствам разрешить чрезвычайно важную проблему, а именно приобрести легитимность в глазах своих граждан, — даже если последние имели причины для недовольства. Этот процесс мог усилить и даже заново
создать чувство государственного патриотизма. Но подобный патриотизм имел свои пределы, в особенности там, где он сталкивался с конкурирующими факторами, вступавшими теперь в действие с большей, чем прежде, легкостью. Эти силы — а самой грозной среди них был национализм, не связанный с идеей государства, — претендовали на чувства преданности и лояльности, единственным законным объектом которых провозглашало себя государство. Далее мы увидим, что их притягательность и сфера влияния неуклонно возрастали, а в последней трети XIX века они начали ясно формулировать такие цели, которые еще более увеличивали их потенциальную опасность для государства. Не однажды утверждалось, что сам процесс демократизации государств стимулировал, если не порождал эти силы. Теория национализма как результат модернизации стала чрезвычайно популярной в современной литературе. 1И все же, какой бы ни была реальная связь между национализмом и модернизацией государств XIX века, государство видело в национализме 1См.: Karl Deutsch. Nationalism and Social Communication. An Enquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge MA, 1953. Другой характерный пример этой тенденции — Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Oxford, 1983. Cf. Jong Breuilly. Reflections on nationalism // Philosophy and Social Sciences, 15/1 March 1985. P. 65–75.
144 Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 г.
особую, вполне отличную от «государственного патриотизма» политическую силу, с которой нужно было считаться и искать соглашения. Но если бы ее удалось включить в рамки государственного патриотизма в качестве его эмоционального ядра, то она действительно могла бы стать в руках правительства необыкновенно мощным орудием.
И это нередко оказывалось возможным — с помощью простого переноса чувства исконной, экзистенциональной самоидентификации человека с его «малой» родиной на родину большую. Филологически данный процесс отразился в расширении смысла таких слов, как «pays», «paese», «pueblo» и даже «patrie» (еще в 1776 г. Французская Академия давала ему узколокальное определение). «Родиной (страной) была для француза лишь та ее часть, где ему случилось появиться на свет». [158] J. M. Thompson. The French Revolution. Oxford, 1944. P. 121.
Но став «народом», граждане страны превращались в своего рода общность (хотя и воображаемую), а значит, членам этой новой общности приходилось искать — а следовательно, и находить — нечто их объединявшее: обычаи, выдающиеся личности, воспоминания, места, знаки и образы. Соответственно, историческое наследие отдельных частей, регионов и провинций того, что теперь стало «нацией», можно было сплавить в единую общенациональную традицию — и настолько прочно, что даже прежние их конфликты превращались в символ примирения, достигнутого на более высоком и всеохватывающем уровне. Именно так, на земле, пропитанной кровью враждовавших между собой горцев Северной Шотландии и равнинных жителей Шотландии Южной, кровью королей и ковенантеров, создал Вальтер Скотт единую Шотландию, и сделал он это, ярко изобразив их старинные раздоры. Но эту теоретическую проблему (если взять ее в более широком смысле) приходилось решать практически каждому национальному государству. Видаль де ла Блаш дал ее удачное резюме в своей превосходной книге Tableau de la geographic de la France (1903) [159] Эта книга была задумана как первый том знаменитой Histoire de la France под редакцией Эрнеста Лависса, ставшей памятником позитивистской науки и республиканской идеологии. См.: J.-Y.Guiomar. Le Tableau de la geographic de la France de Vidal de la Blache в: Pierre Nora (ed.). Les Lieux de Memoire II. P. 569 ff.
: «Каким образом часть земной поверхности, которая не является ни островом, ни полуостровом и которую с точки зрения физической географии нельзя рассматривать как нечто единое, возвысилась до состояния политического целого и в конце концов превратилась в „отечество“ (patrie) ». Ибо каждой нации, даже не слишком большой, приходилось создавать свое единство на основе очевиднейших различий.
Государства и правительства имели все основания укреплять государственный патриотизм с помощью чувств и символов этой «воображаемой общности», привлекая их на свою сторону при любой возможности независимо от того, где и как последние возникли. Случилось так, что эпоха демократизации политики, поставившая в порядок дня задачу «воспитать наших учителей», «создать итальянцев», «сделать из крестьян французов», объединить всех граждан вокруг «нации» и «флага», совпала с тем временем, когда правительствам стало гораздо легче использовать для своих целей массовые националистические или, по крайней мере, ксенофобские настроения, а также чувство национального превосходства, которое активно проповедовали новейшие псевдонаучные теории расизма. Ведь период 1880–1914 гг. стал эпохой невиданных до той поры внутри- и межгосударственных миграций, эпохой империализма и все более обострявшегося международного соперничества, вылившегося в конце концов в мировую войну. Все эти процессы
Читать дальше