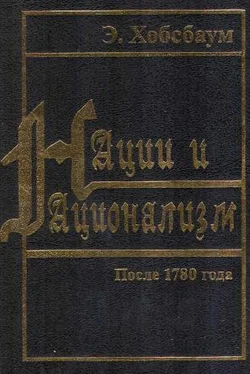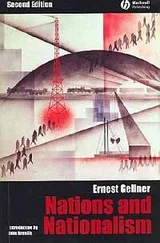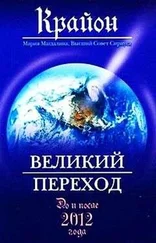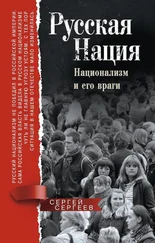А
1Cf. Hugh Cunningham. The language of patriotism, 1750–1914 //History Workshop Journal, 12, 1981. P. 8–33.
2J. Godechot. La Grande Nation: l'expansion revolutionnaire de la France dans le monde 1789–1799. Paris, 1956, vol. I. P. 254.
* «Родина» (фр.). — Прим. пер.
140 Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 г.
ческий выбор ее членов, которые таким образом разрывали или, по крайней мере, ослабляли узы прежней лояльности. 1200 национальных гвардейцев из Лангедока, Дофинэ и Прованса, собравшихся у города Баланс 19 ноября 1789 года, принесли присягу на верность Нации, Закону и Королю и объявили, что отныне они уже не провансальцы, лангедокцы и т. п., а просто французы. Точно так же поступили в 1790 году национальные гвардейцы Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, — и это еще более показательный пример, ибо таким образом в настоящих французов превратились обитатели провинций, аннексированных Францией всего лишь за столетие до описываемых событий.' Как выразился Лависс, «La Nation consentie, voulue par elle-même» 2* стала вкладом Франции в мировую историю. Революционное понятие нации, созданной сознательным политическим выбором ее потенциальных членов, до сих пор сохраняется в чистом
виде в США. Но и французское понятие нации как чего-то аналогичного плебисциту («un plebiscite de tous les jours»,** по словам Ренана) не утратило своего по существу политического смысла. Французская национальность означала французское гражданство: этнос, история, употреблявшиеся в повседневном обиходе язык или местное наречие на определение «нации» совершенно не влияли.
Но подобная «нация» — т. е. совокупность граждан, чьи права как таковые предоставляли им долю участия в судьбах страны и тем самым делали госу-
1Ibid., I, p. 73.
2Цит. по: Pierre Nora (ed.). Les Lieux de Memoire. La Nation. Paris, 1986. P. 363. * «Нация, которая создала самое себя собственной волей» (фр.). — Прим. пер. ** «ежедневный плебисцит» (фр.). — Прим. пер. Глава III. Позиция правительств 141
дарство до известной степени «их собственным», — подобная «нация» стала реальностью не только при демократических и революционных правительствах, хотя режимы антиреволюционные и консервативные осознавали этот факт чрезвычайно медленно. Вот почему правительства воюющих держав были так удивлены в 1914 году, когда обнаружили, что граждане их стран в яростном (хотя и недолгом) порыве патриотизма массами бросаются к оружию. 1Демократизация политики как таковая (т. е. превращение подданных в граждан) способна породить популистское сознание, в некоторых аспектах почти неотличимое от национального и даже шовинистического патриотизма, ибо если «эта страна» в известном смысле «моя», то я с большей готовностью ставлю ее выше других стран, в особенности если жители последних лишены прав и свобод истинного гражданина. «Свободнорожденный англичанин» Томпсона или гордые «британцы» XVIII века, которые «никогда не станут рабами», весьма охотно подчеркивали свое отличие от французов. Это вовсе не предполагало какой-либо симпатии к собственным правящим классам или правительствам; последние, в свою очередь, не слишком верили в преданность бойцов из низших классов, для которых эксплуатировавшие простой народ богачи и аристократы представляли более непосредственную и тягостную реальность, чем самые ненавистные из чужеземцев. Классовое сознание, постепенно формировавшееся у трудящихся слоев многих стран в последние предвоенные десятилетия, подразумевало, — более того, активно побуждало к борьбе за «права че-
1 Marc Ferro. La Grande Guerre 1914–1918. Paris, 1969. P. 23; A Offner. The working classes, British naval plans and the coming of the Great War //Past and Present, 107, May 1985. P. 225–226. 142 Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 г.
ловека и гражданина», а следовательно, способствовало становлению патриотизма. Массовое политическое или классовое сознание, как показывает история якобинства или движений, подобных чартизму, было внутренне связано с понятием «patrie», или «отечества». Не случайно большинство чартистов выступало и против богачей, и против французов.
И все же подобный народно-демократический или якобинский патриотизм оставался чрезвычайно уязвимым ввиду подчиненного положения масс его носителей — как в объективном, так и (в случае с трудящимися классами) в субъективном смысле. Ведь в тех государствах, где он развился, конкретный политический смысл патриотизма определяли не патриоты из низов, а правительства и господствующая верхушка. Рост политического и классового сознания в среде рабочих учил их добиваться гражданских прав и осуществлять их на практике. Трагический парадокс данного процесса заключался в том, что именно там, где трудящиеся научились отстаивать свои права, это помогло правящим режимам ввергнуть рабочие массы — без особого сопротивления с их стороны — в ужас взаимного истребления 1914 года. Однако весьма показательно, что, стремясь обеспечить массовую поддержку войны, правительства воюющих государств апеллировали не просто к слепому патриотизму, еще менее — к воинской славе или к образу героя-мужчины, но обращались в своей пропаганде прежде всего к гражданскому сознанию штатского человека. Все крупные воюющие державы изображали войну как оборонительную со своей Стороны; все объясняли ее внешней угрозой гражданским правам и свободам собственной страны или коалиции; все научились представлять целью войны (правда, совсем не последовательно) не только устранение подобной угрозы, но и известное Глава III. Позиция правительств 143
Читать дальше