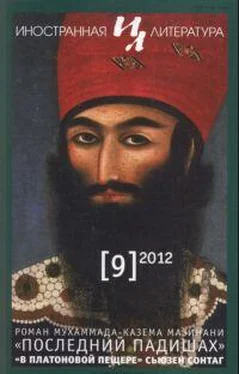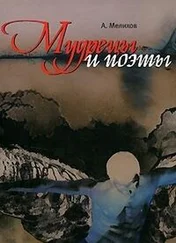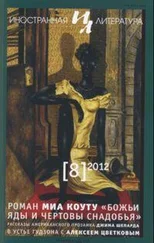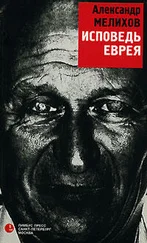Правда, «Импровизация без названия» — название очень подходящее для того, чтобы не наводить зрителя ни на какие догадки. Однако правая часть картины лично мне напоминает океанский прибой, сфотографированный со спутника, а чуть правее середины брезжит чуть ли не атомный гриб. В своем трактате «О духовном в искусстве» Кандинский разъяснял, что черное для него — символ смерти, белое — рождения, голубое — благородства, красное — мужества, а желтое — коварства, горизонталь — пассивна, женственна, вертикаль — мужественна, возвышенна. Чего больше в этой или иной его картине — пусть каждый судит сам в меру своей внушаемости или богатства собственного воображения.
Так, в «Импровизации № 26» можно углядеть и сходящиеся вдали рельсы, и горы, и мохнатую птицу над горами, и следы каких-то взмахов; в картине, не имеющей названия (так называемый «Потоп»), — вспышки, вихри, зигзаги, диковинные цветы (при желании можно отыскать связь и с потопом), но так свободно отдаваться предметным ассоциациям — вряд ли это устроило бы Кандинского. Он старался создать «непостижимое пространство». Он считал, что все в мире — даже «глядящая на нас из лужи пуговица от штанов» — имеет «тайную душу», и переживания этой «тайной души» называл «внутренним взором», который проходит сквозь твердую оболочку, через внешнюю «форму» к внутреннему началу вещей и позволяет нам воспринять всеми нашими чувствами внутреннее «пульсирование этих вещей».
Заметьте: не подчеркнуть, усилить какие-то зримые качества вещи, как это делали и Сезанн, и Матисс, и Пикассо, а воспринять нечто невидимое, пульсирование некой «тайной души». Попробуйте почувствовать это пульсирование в «Композиции в желто-красно-синих тонах». Если анимизм (наделение душой всех живых и неживых предметов) кажется вам первобытной нелепостью, то вряд ли вы испытаете те чувства, которые желал пробудить Кандинский, а снова начнете невольно угадывать тут цветные шахматы, там солнце, сям змею… Кандинский называл «импровизациями» картины, требующие активного участия фантазии, а слово «композиция» звучало для него, «как молитва». Некоторые «Композиции» и впрямь более прозрачны и геометричны — но разве это свойство молитв?
А вот «Синие небеса» действительно синие. И праздничные. Как будто в майском небе парят диковинные воздушные змеи, иногда похожие на каких-то пестрых причудливых амеб и инфузорий, если долго их разглядывать.
Но позволяя этим пятнам и завитушкам будоражить наше воображение, отдаемся мы скрытой музыке красок и линий или вносим в картину то, чего в ней нет? Люди с богатым воображением видят в пятнах Роршаха настолько больше, чем натуры обедненные, что это наводит на мысль: а не афера ли все эти импровизации и композиции? Пылкие фантазеры, гипервнушаемые истерики восхваляют щи из топора, а мошенник, запустивший эту оргию, только посмеивается?
Игорь Грабарь так вспоминает о появлении Кандинского, которому было уже за тридцать, в мюнхенской школе Антона Ашбе: «Совершенно ничего не умеет, но, впрочем, по-видимому, симпатичный малый». Вот этот «симпатичный», искренний тон и располагает к его самоучителю художника-абстракциониста «Точка и линия на плоскости» [61] В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. — СПб.: Азбука-классика, 2005.
:
Первые цвета, впечатлившиеся во мне, были светло-сочно-зеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры. Впечатления эти начались с трех лет моей жизни. Эти цвета я видел на разных предметах, стоящих у меня перед глазами далеко не так ярко, как сами эти цвета.
Цвета впечатляют сильнее, чем предметы. Кандинскому начинаешь верить, вчитываясь в его гимн закатной Москве — «fortissimo огромного оркестра»:
Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви — всякая из них отдельная песнь, — бешено зеленая трава, низко гудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или allegretto голых веток и сучьев, красное, жесткое, непоколебимое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобная торжественному крику забывшего весь мир «аллилуйя», белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого.
Впоследствии я поставил себе целью моей жизни написать «Композицию». В неясных мечтах неуловимыми обрывками рисовалось передо мною подчас что-то неопределенное, временами пугавшее меня своей смелостью… С самого начала уже одно слово «композиция» звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением. И до сих пор я испытываю боль, когда вижу, как легкомысленно зачастую с ним обращаются. При писании этюдов я давал себе полную волю, подчиняясь даже «капризам» внутреннего голоса. Шпахтелем я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало.
Читать дальше