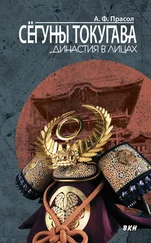Главной причиной частых переездов воинской элиты были переводы на новые должности и назначения в другие земли. Поэтому абсолютное большинство удельных князей было чужаками в управляемых ими провинциях. Из 260 даймё на своей малой родине хозяйничало не более десятка. Их доверенные управляющие (каро), как правило, также были “варягами” — они прибывали вместе с князем из отдаленных мест. Отсутствие связей с местным населением способствовало формализации управления и укреплению дисциплины. Князья обычно брали в жены княжеских дочерей. Выйдя замуж, женщины покидали родные края и никогда там больше не появлялись. Да и с мужем, проводившим каждый второй год в Эдо, они виделись редко. Родители князя тоже жили в столице и не могли без разрешения бакуфу съездить на родину. Так что представители воинской элиты почти никогда не жили там, где они родились и выросли.
Одним из результатов семейной жизни порознь стало то, что сыновья удельных князей от законных жен росли и воспитывались в столице, а сыновья от наложниц — в провинции. Законные сыновья закреплялись в Эдо и усваивали столичные нравы, а на малой семейной родине появлялись только после вступления в наследство. Например, известный даймё Уэсуги Ёдзан (1751–1822) впервые появился в княжестве Ёнэдзава только два года спустя после того, как сделался его хозяином. Если удельным князем становился выросший в провинции сын наложницы, он все равно регулярно ездил в столицу. Так система поочередной службы стягивала в Эдо самурайскую элиту со всех концов страны. Удельные князья и их ближайшее окружение отлично знали столичный диалект и вообще жизнь главного города. Установленная сёгунатом система власти и постоянные перемещения воинской элиты способствовали унификации методов управления и распространению информации.
Образ жизни определял особенности быта. Удельный князь жил в охраняемой усадьбе. Выезжал он и возвращался с приготовлениями и уведомлением всех постов. Нельзя было, например, выехать на встречу в чайный домик через западные ворота, а вернуться через восточные, не предупредив об этом охрану: могли и не пропустить. Случалось, охранники падали ниц и просили прощения, но не пускали без приказа непосредственного начальника, берегли его честь. А князь потом вынужден был еще и награждать стражу за бдительность. Говорят, такое случалось.
Сон удельного князя охраняли два адъютанта (косё) — наследие эпохи междоусобных войн. Или прием ванны, например. В отличие от обычных домов, в княжеских усадьбах ванные комнаты были всегда. Окажись вода горячее, чем нужно — проблема. Рядом прислуга, но напрямую к ней обращаться князю не положено — не те люди, которым дозволено общаться с даймё. И приходится князю бормотать как бы про себя: “Что-то вода сегодня горячая”. Прислуга бросается к адъютанту: его превосходительству что-то требуется. Тот получает от князя распоряжение, передает его банной прислуге, и воду доводят до кондиции. Во время трапезы только адъютант имел право подавать кушанья. Он получал их от прислуги в соседней комнате и прислуживал господину за столом.
Этот сложный бытовой ритуал сложился ко второй половине XVII века, когда в целом утвердилась система назначения удельных князей. В обращении с прислугой даймё копировали правила, по которым жил замок Эдо и его хозяин: перечень лиц, имевших право лично прислуживать сёгуну, также был ограниченным, а их обязанности и полномочия строго регламентированы. А сёгуны Токугава, в свою очередь, копировали императорский дворцовый ритуал. К тому времени прислуга императора уже несколько столетий была четко поделена на ранги, и каждый ранг имел собственное название, круг обязанностей и прав. Император мог отдать распоряжение любому придворному, но отвечать ему могли лишь те, кому было положено по рангу. Не имевшие такого права передавали распоряжение потомка богов высшей прислуге (ранг сукэ или найси [22] Сукэ но цубонэ, найси но цубонэ. Соответствовали рангу камергера в европейских монархиях.
), и она докладывала хозяину об исполнении его поручения.
Текущими делами княжества ведали доверенные управляющие удельного князя и их прямые вассалы. Сам он принимал лишь самые важные решения и олицетворял незыблемость устоев на вверенной ему территории. Более или менее вникать в дела даймё стали только во второй половине XVIII века. Так же, как японский император олицетворял благосклонность богов к нации, сёгун служил символом могущества рода Токугава. Реализация властных полномочий была делегирована императором сёгуну, а сёгуном — государственным советникам. Эта схема воспроизводилась и в княжествах. Если же князь попадался активный, в делах толковый и сам занимался текущими вопросами, то это не всегда встречалось ближайшим окружением благосклонно; бывало по-разному.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
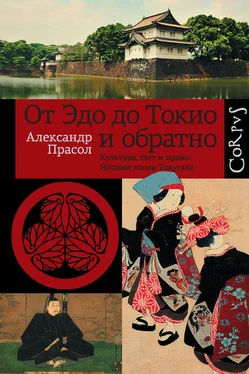




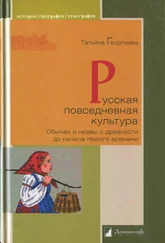


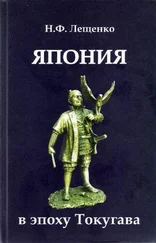
![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)