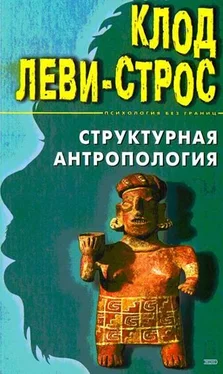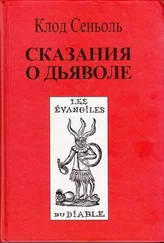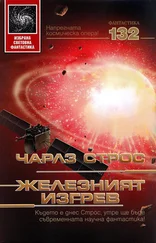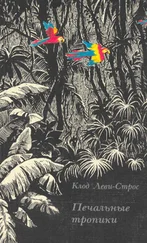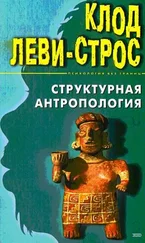Идеи Бора о дополнительности человеческих культур были развиты им в целом ряде работ, связанных с общими вопросами лингвистики, психологии и культурологии.
О соотношении семиотики и антропологии ср. [393]. Сам Леви-Строс в своих последующих работах включает антропологию в семиотику [549; 603], что ближе всего к идеям Г. Г. Шпета [151].
Имеется в виду работа М. Мосса о даре, с этой точки зрения рассмотренная Леви-Стросом в его диссертации [484] и в статье о Моссе [486; 542].
В качестве примера расширения связей этого типа можно привести шуточные отношения, построенные по типу отношений между потенциальными свойственниками в ряде африканских обществ [107; 759; 233].
Леви-Строс в ряде своих работ излагает точку зрения, согласно которой письменность возникла после выделения господствующих классов, которые и стали использовать ее в своих целях. С этой точки зрения Леви-Строс не считает раннюю письменность полезным явлением для общества в целом. Сходные идеи о создании письменности в ряде древних жреческих обществ именно жрецами развивались в ряде работ Ю. В. Кнорозова.
С этой точки зрения для антропологии большой интерес представляет проблема роли преподавателя — лектора в университете, роли вечера поэта или концерта исполнителя по сравнению с радио- или телепередачей или фиксацией того же явления в кино, роли научных съездов, конференций и симпозиумов по сравнению с научными журналами и т. п. В более общем виде можно поставить вопрос о необходимости непосредственного контакта как обязательного условия творчества и об ограниченности размера всякой творческой сообщности людей (определяемой как лежащей в пределах 500-1000 человек на основании сопоставления античной Греции, Италии времени Возрождения, продуктивных объединений ученых в Европе XIX–XX вв.); см. [53, с. 4].
Ср. неоднократно дававшуюся со сходной точки зрения критику славянофилов, а также более общее изложение данной проблемы в [151].
Сам создатель теории дополнительности Н. Бор рассматривал математический язык как усовершенствованную форму обычного языка, нужную для передач тех значений, которые непередаваемы средствами повседневного языка [214].
Из работ по географии человека (особенно много в этой области было сделано в XIX в. Э. Реклю и связанным с ним Л. Мечниковым [668]), см. [124], где изложение ведется в плане соотношения этой науки с антропологией и этнологией. Новейшую литературу см. в [14].
Критические замечания о Леви-Брюле, связанные именно с отсутствием у него опыта полевых исследований, высказывал в своих лекциях по этнографии Л. Я. Штернберг.
К общей теории музеев см. замечательные идеи предвестника современной документалистики, хранителя коллекций Румянцевского музея Н. Ф. Федорова [139]. О музеях и их эстетической функции существенные идеи высказаны в сочинениях А. Мальро по истории искусства.
Существенное значение для антропологических исследований в России имел петербургский Музей антропологии и этнографии, в изданиях которого на протяжении многих лет печатались работы по этнографии и этнологии. Ср. также посвященное этому музею стихотворение Н. С. Гумилева («Есть музей этнографии в городе этом…»), которое, как и многие другие факты, наглядно свидетельствует о том, что уже в начале 20-х годов музей играл существенную роль в жизни не только научной, но и художественной интеллигенции.
Проблема современного контакта культур очень велика и для искусства XX в., ср., например, роль африканского искусства в творчестве Пикассо и Модильяни [426], древне мексиканского, китайского и японского искусства для С. М. Эйзенштейна [152] и т. п. Этот аспект проблемы очень важен и для определения отношения между антропологией и эстетикой; ср. [819]. Как отмечал еще в 1926 г. Г. Г. Шпет, «более глубокое понимание искусства нуждается в особой психологии примитивных народов» [151, с. 7–8].