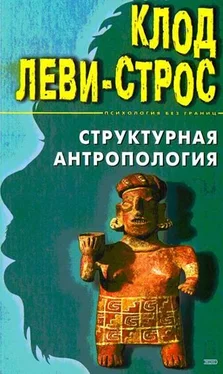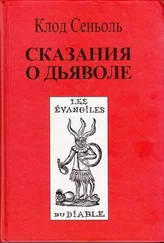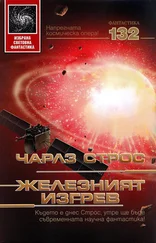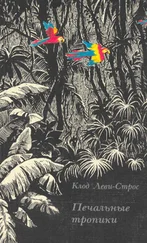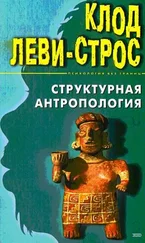Относительно соединения мужского и женского начал в мифе см. [183; 277].
Мотив беременного мужчины характерен для древних мифологий Старого Света: египетской (миф о Горе и Сете) [89] и хеттской, где соответствующий эпизод буквально совпадает с египетским.
Структурный анализ церемонии хако дан Хокартом также в [364, с. 226–227].
Маркированность понимается здесь как в структурной лингвистике (в частности, в фонологии); маркированный член противопоставления отмечен существенным признаком (и поэтому обычно статистически реже встречается), тогда как статистически более частый немаркированный член оппозиции не имеет соответствующего признака.
Здесь Леви-Строс предвосхищает в известной мере понятие порождения, широко используемое в работах Хомского и его школы [37].
О языковых союзах, см. [137; 394].
В пользу гипотезы о существовании древних контактов через Тихий океан между Америкой, с одной стороны, Океанией и Юго-Восточной Азией — с другой, в настоящее время собрано много свидетельств; см. [41; 42; 115, с. 362; 173; 174; 275; 276; 322; 344; 649; 665; 687; 719; 826]. В свете этих данных можно считать весьма вероятным наличие этих контактов. Относительно особенно часто обсуждавшейся в последнее десятилетие в научно-популярной литературе проблемы полинезийско-перуанских контактов выдающийся этнограф-американист Ю. В. Кнорозов в своем комментарии к «Истории государства инков» Инки Гарсиласо де ла Вега [427, с. 715–716] высказывает гипотезу, что в древнеперуанской легенде о гигантах отразилась полинезийская разведывательная экспедиция. Такая экспедиция «скорее всего могла достичь американского берега вблизи экватора, пользуясь экваториальным противотечением, а затем двинуться вдоль побережья на юг до зоны южного пассатного течения, с которым было очень удобно возвратиться в Полинезию, подождав благоприятного ветра (в легенде „гиганты“ жили довольно долго на берегу). Мыс св. Елены на северном конце Гуаякильского залива вполне подходил для стоянки полинезийских разведчиков, ожидавших попутного ветра. „Гиганты“ прибыли на лодках, что совершенно необычно для прибрежных индейцев, плававших на плотах. Полинезийцы вполне могли сойти за великанов у низкорослых прибрежных индейцев. „Гиганты“ не стремились завоевать индейцев и не боялись их, захватывали женщин и, очевидно, познакомились с местной культурой. Полинезийское название сладкого картофеля совпадает с местным названием (кумар), употреблявшимся только в этой провинции» [427, с. 716]. Последний аргумент используется в книгах, написанных на эту тему Туром Хейердалом.
В Индии и в странах Юго-Восточной Азии, испытавших влияние индийской культуры, сходные изображения, построенные по тем же принципам, известны под названием kala-makara-torana [236–238; 267]. Они находят весьма близкие соответствия в искусстве доколумбовой Центральной Америки, что не раз отмечалось в работах, посвященных контактам, вероятно осуществлявшимся через Тихий океан [ср. 275; 276; 344].
Изображение характерных признаков животных специфично и для самых ранних китайских пиктограмм Иньской эпохи [145, с. 445–466], что сближает их и с наиболее архаическими образцами первобытного искусства [450].
О симметрично развернутом или «удвоенном» изображении в культурных традициях тихоокеанского ареала ср. [115, с. 358–369]. Для обсуждения вопроса о том, в какой мере сходство таких изображений может объясняться не генетическими, а типологическими факторами, исключительный интерес представляет обнаружение сходного принципа в древне-германском искусстве, где, впрочем, отдельные образы этого типа связывают с восточными влияниями [372]. В частности, древнегерманские сдвоенные изображения с мотивом волка [372, с. 32–33, рис. 15] аналогичны древнекавказским, что можно объяснить так же, как и подобные сходства соответствующих мифологических представлений [54, с. 400, 404, 407].
Относительно изображения внутренностей животного как на «рентгеновских снимках» в первобытном искусстве, в частности австралийском, ср. [115, с. 290–291 и 305].
Роль симметрии в первобытном искусстве в целом была очень значительной [115, с. 78–79 и 117; 30, с. 176; 142; 450].
Пату мере у маори — каменное оружие, которым пользовались маори в Новой Зеландии (на языке маори пату «ударить», «оружие»; мере «небольшое плоское каменное оружие»).
Читать дальше