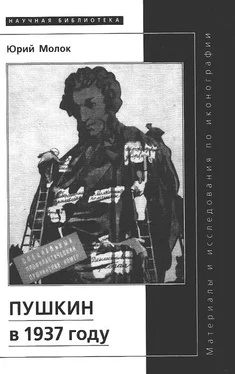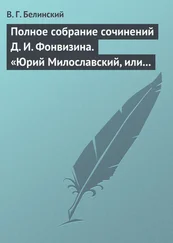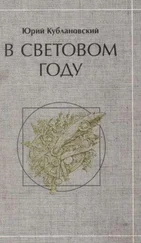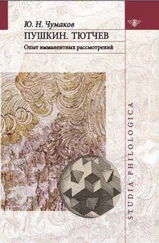Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа
Среди коротких заметок Ю. Н. Тынянова, затерянных в старых журналах, есть одна, которая еще не привлекла к себе особого внимания исследователей, да, может быть, и не заслуживала того, если бы не касалась главной темы творчества Тынянова — теоретика и историка литературы, и особенно Тынянова-прозаика. Речь идет о Пушкине, точнее, о памятнике Пушкину — одной из главных идей культуры 1930-х годов, идеи, в обсуждение которой был втянут и Тынянов.
Мы имеем в виду его статью «Движение», опубликованную в пушкинском номере ленинградского журнала «Звезда» (1937. № 1), приуроченном к 100-летию со дня гибели поэта. Открывался номер стихами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которые приобретали здесь несколько другой смысл, чем вкладывал в них поэт, размышляя, подобно Горацию и Державину, о суде потомков в рамках литературной традиции. Авторская исповедь, не публиковавшаяся поэтом при жизни, читалась в те юбилейные годы как риторическая ода уже другого, непушкинского времени, вроде: «Слушайте, товарищи потомки…» В юбилейном номере журнала фигурировало немало биографических и внебиографических двойников Пушкина, вплоть до однофамильцев поэта, даже не поэта, а памятника поэту. (Так, в повести Б. Лавренева фигурировали уже два Пушкина: комендант Детского Села, военмор Александр Семенович Пушкин, и памятник его великому однофамильцу в царскосельском парке.) Печатались и другие посвященные Пушкину опыты современной литературы — например, вариации на темы пушкинской прозы, скажем, повесть для кино М. Блеймана и И. Зильберштейна «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», не говоря уже о прямых «литературных двойниках» пушкинских произведений, таких, как искусная мистификация Михаила Зощенко «Шестая повесть Белкина», которую пушкинисты вполне могли выдать за вновь обнаруженную рукопись самого поэта.
Переход из одной эпохи в другую представлялся в 30-е годы прямым и легко осуществимым. От авторского словесного памятника к памятнику в «материале» — граните, мраморе или бронзе. Рядом с «нерукотворным» возникала идея нового «рукотворного» памятника, встроенного в текст новой эпохи и новой культуры. Говоря словами одной из ранних тыняновских статей, Пушкин был «выдвинут за эпоху» [2] Тынянов Ю. Литературный факт // Леф. 1924. № 2. С. 101.
.
Сама композиция мемориального номера журнала была симметричной. Стихотворный пушкинский «Памятник», подобно тексту, выбитому на пьедестале, открывал журнал, а роль собственно памятника заменял словесный портрет: «Каким должен быть памятник Пушкину?»
Строго говоря, дискуссия на эту тему началась еще в предыдущем номере журнала (шла в трех номерах) под девизом «Памятники великим писателям». Речь шла о новом литературном плане Ленинграда, о «географии памятников», как называлась статья архитектора Е. Катонина. Скульпторы В. Козлов и Л. Шервуд, будущие участники конкурса на новый памятник, перевели разговор на Пушкина. Этот разговор был продолжен в юбилейном номере журнала, став своего рода литературной программой будущего памятника. Круг участников дискуссии был расширен. Кроме скульптора В. Лишева («Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре») слово было предоставлено народному артисту Борису Бабочкину, прославившемуся в роли Чапаева («Пушкин — победитель»), писателю В. Каверину, незадолго перед этим опубликовавшему роман о пушкинистах «Исполнение желаний» (его статья называлась «Памятник гению»). Открывался раздел статьей Юрия Тынянова.
Неудивительно, что в этой дискуссии ему была отведена роль самого авторитетного судьи. Правда, в публиковавшихся одновременно в другом ленинградском журнале — «Литературный современник» — главах тыняновского романа, которые критика считала «прологом, вступлением к великой жизни» [3] Гринберг И. Начало романа // Звезда. 1937. № 1. С. 216. В том же номере журнала помещены письма читателей о творчестве А. С. Пушкина и о романе Тынянова «Пушкин».
, Пушкин в нем был еще «ребенком и отроком» [4] См.: Гус М. Пушкин — ребенок и отрок (о романе Ю. Тынянова) // Красная новь. 1937. № 5.
, он только покидал лицей. Но именно с Тыняновым связывали надежды на создание нового литературного памятника поэту, который, как мы знаем, остался незавершенным, так же как новый скульптурный памятник Пушкину в те годы вообще не был осуществлен.
Великая жизнь оказалась недописанной Тыняновым. Что касается памятника поэту, то он так и остался в те годы на уровне идей (дело не пошло дальше конкурсных проектов), само обсуждение которых, однако, стало характерным фактом культуры 30-х годов, с их риторическим пафосом сотворения новых идеалов и переосмысления, больше отрицания, старых. Такой сдвиг в общественном сознании — от литературного образа поэта к памятнику поэту — имел свою традицию, которая сложилась к концу XIX века.
Читать дальше