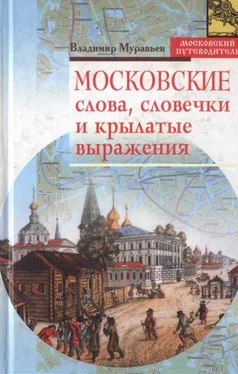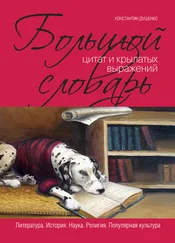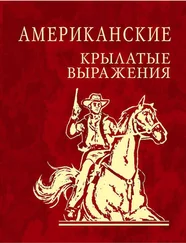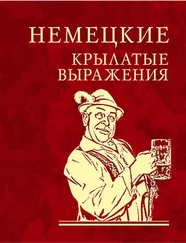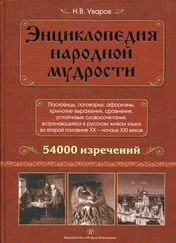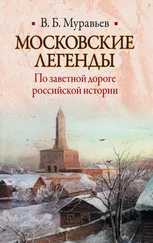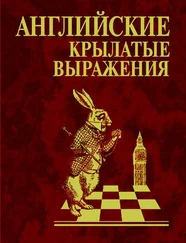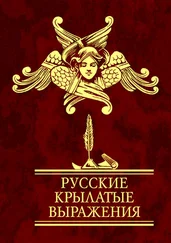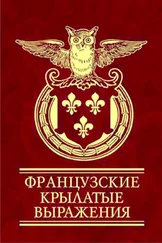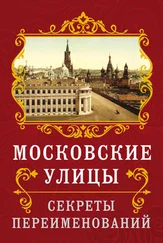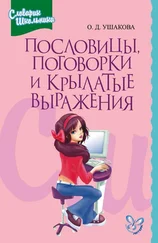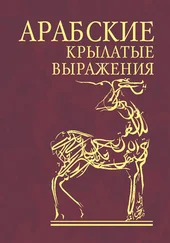Получив в июне 1813 года лихой проект Гесте, московский генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин послал в Петербург свои возражения на него. Прежде всего он сообщает, что среди предназначенных к сносу строений «есть много значащих зданий и обширных домов… Уничтожение же вовсе сих строений, исключая знатного убытка, хозяевам нанесет огорчение и произведет ропот, быв совсем несогласно благотворным видам государя императора». Не согласен он и с уничтожением Китайгородской стены: «Стену Китай-города, хотя она и требует поправления, должно оставить, потому что она по долговременности своей заслуживает уважения и дает вид величественности части города, ею окруженной».
Следует особенно подчеркнуть, что сохранение исторической застройки, памятников архитектуры и памятников истории (в большинстве случаев они соединяют в себе и то и другое, как, например Сухарева башня) — является главной московской градостроительной традицией. Ее понимали и понимают настоящие московские архитекторы. Понимало и понимает это московское общество, причем общество в широком смысле, общество всех классов и сословий.
Москва — исторический город, она вошла в ряд мировых исторических столиц благодаря своей исторической застройке, поэтому разрушение этой застройки означает просто уничтожение Москвы. Московское общество, понимая это, во все времена относилось к разрушителям старины с неодобрением.
В 1813 году замечательный и импульсивный поэт Н. М. Языков в стихотворении, посвященном Москве, писал:
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
О! проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
Всем известны проклятья, которые посылали москвичи в 1930-е годы в адрес разрушителей исторической Москвы, возглавляемых руководителем московских большевиков Л. М. Кагановичем. Памятна и расправа властителей-разрушителей с защитниками московских памятников, которых НКВД арестовывало, сажало в тюрьмы, отправляло в лагеря. Один из подвергнутых репрессиям искусствовед Г. К. Вагнер свои воспоминания назвал: «Десять лет Колымы за Сухареву башню», его обвинили в том, что он «ругал Кагановича, Ворошилова и других за снос Сухаревой башни и Красных ворот».
Демьян Бедный, радуясь результатам устрашения, писал:
Как грандиозны перемены
Везде, во всем — и в нас самих.
Снесем часовенку, бывало,
По всей Москве: ду-ду! ду-ду!
Пророчат бабушки беду.
Теперь мы сносим — горя, мало,
Какой собор на череду.
Скольких в Москве — без дальних споров —
Не досчитаешься соборов!
Дошло: дерзнул безбожный бич —
Христа-Спасителя в кирпич!
Земля шатнулася от гула!
Москва и глазом не моргнула.
Опасаясь порицать политику московских властей открыто, москвичи осуждали ее потихоньку, в разговорах.
Деятелей сталинского Генерального плана реконструкции Москвы до сих пор поминают недобрым словом, их черная слава дошла до внуков и правнуков.
Такие же чувства испытывают и современные москвичи к современным посягателям на великолепье московской старины, такая же слава уготована им и в народной памяти.
Однако вернемся к проекту реконструкции Москвы придворным архитектором В. И. Гесте в 1813 году.
«Комиссия для строений Москвы» выступила с решительными возражениями против этого «спущенного сверху» плана, для чего, конечно, требовались и профессиональная честность, и немалое гражданское мужество. К счастью, архитекторы, восстанавливавшие Москву после пожара 1812 года, обладали этими качествами в полной мере. В отзыве на имя царя они писали: «Прожектированный план хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оные в исполнение почти невозможно, ибо многие годы и великие суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по оному плану, поелику художник, полагая прожекты, не наблюдал местного положения».
Отбившись от проекта Гесте, московские архитекторы разработали собственный план, в котором соблюдалась историческая преемственность в планировке города и ставилась задача сохранить и восстановить пострадавшие исторические памятники. Но в то же время, развивая московские градостроительные традиции, они создали новый архитектурный стиль — московский ампир, постройки которого естественно вошли в городскую среду и стали еще одной своеобразной чертой облика Москвы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу