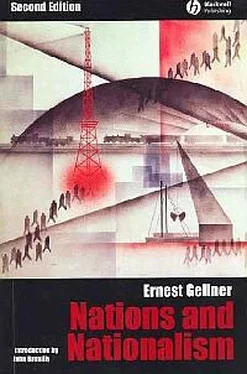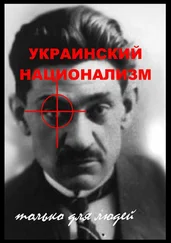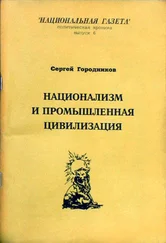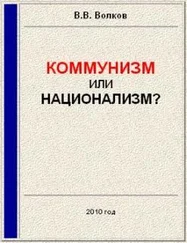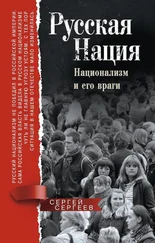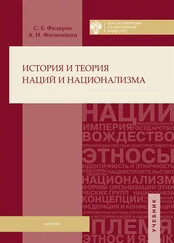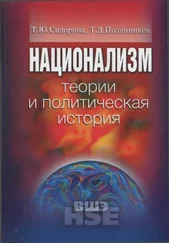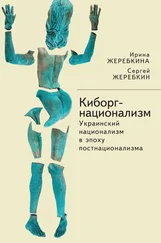Таким образом, проблема национализма не возникает, когда нет государства. Из этого не следует, что эта проблема встает перед каждым государством. Напротив, она встает только перед некоторыми государствами. Остается разобраться, перед какими.
Определение нации связано с гораздо более серьезными трудностями, чем определение государства. Хотя современный человек склонен воспринимать централизованное государство (и в частности централизованное национальное государство) как нечто само собой разумеющееся, однако он без особого труда может уяснить себе его случайный характер и вообразить социальную ситуацию, при которой государство отсутствует. Он вполне способен представить себе «первобытное состояние». Антрополог может объяснить ему, что племя — это не всегда уменьшенное государство, что существуют формы племенной организации, которые можно считать негосударственными. Напротив, представление о человеке без нации с трудом укладывается в современном сознании. Шамиссо [3], француз, эмигрировавший в Германию в наполеоновский период, написал яркий протокафкианский роман о человеке, потерявшем свою тень. Хотя воздействие этого романа во многом основывается на умышленной двойственности иносказания, нельзя не догадаться, что для автора Человек без Тени — это Человек без Нации. Когда его приверженцы и друзья замечают это ненормальное отсутствие тени, они отворачиваются от Петера Шлемиля, несмотря на его прочие преимущества. Человек без нации бросает вызов общепринятым нормам и потому вызывает неприязнь.
Точка зрения Шамиссо — если это и в самом деле то, что он хотел выразить, — была вполне обоснованной, но обоснованной лишь для определенного состояния человеческого общества, а не для человеческого общества вообще в любом месте и в любое время. У человека должна быть национальность, как у него должны быть нос и два уха; в любом из этих случаев их отсутствие не исключено, и иногда такое встречается. Но это всегда результат несчастного случая, и само по себе уже несчастье. Все это кажется самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это поневоле внедрилось в сознание как самоочевидная истина, представляет собой важнейший аспект или даже суть проблемы национализма. Национальная принадлежность — не врожденное человеческое свойство, но теперь оно воспринимается именно как таковое.
Фактически нации, как и государства, — всего лишь случайность, а не всеобщая необходимость. Ни нации, ни государства не существуют во все времена и при любых условиях. Более того, нации и государства — случайность не одного и того же свойства. Национализм стоит на том, что они предназначены друг для друга; что одно без другого неполно; что их несоответствие оборачивается трагедией. Но прежде чем они стали предназначенными друг для друга, они должны были возникнуть, и их возникновение было независимым и случайным. Государство, безусловно, возникло без помощи нации. Некоторые нации, безусловно, сложились без благословения своего собственного государства. Более спорным является вопрос: предполагает ли нормативная идея нации в ее современном смысле априорное существование государства?
Что же в таком случае представляет собой эта случайная, но в наш век, по-видимому, универсальная и нормативная идея нации? Обсуждение двух очень приблизительных, предварительных определений поможет добраться до сути этого расплывчатого понятия.
1. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если их объединяет одна культура, которая в свою очередь понимается как система идей, условных знаков, связей, способов поведения и общения.
2. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если они признают принадлежность друг друга к этой нации. Иными словами, нации делает человек, нации — это продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей (скажем, жители определенной территории или носители определенного языка) становится нацией, если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и обязанности по отношению друг к другу в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качества — какими бы они ни были, — которые отделяют эту группу от всех, стоящих вне ее.
Каждое из этих предварительных определений — и по принципу культурной общности, и по принципу добровольности — по-своему ценно. Каждое из них выделяет элемент, который действительно важен для понимания национализма. Но ни одно из них еще не достаточно. Определения культуры, подразумеваемые в первом случае скорее в этнографическом, нежели в нормативном смысле, явно сложны и неудовлетворительны. По-видимому, лучше всего подойти к проблеме не слишком стараясь дать формальное определение этому термину, а рассмотрев, какова же в действительности роль культуры.
Читать дальше