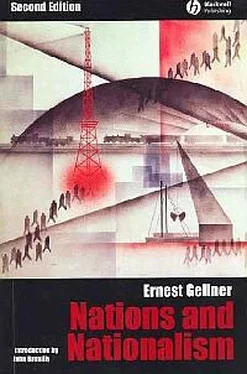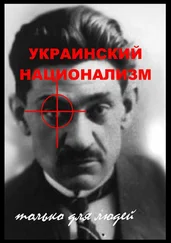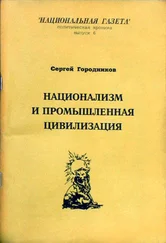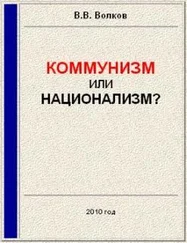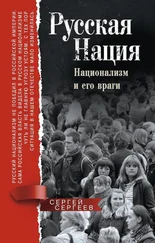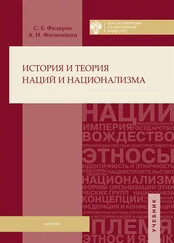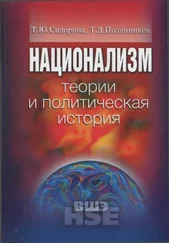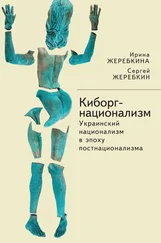В действительности же национализм почти никогда не был ни столь отрадно благоразумен, ни столь рассчитано уравновешен. Вполне вероятно, что, как считал Иммануил Кант, пристрастность, склонность во всем делать себе исключение — основная человеческая слабость, из которой проистекают все остальные; и что она наряду со всем прочим поражает и националистическое чувство, пробуждая то, что итальянцы во времена Муссолини называли sacro egoismo [1] Святым эгоизмом (ит.)
национализма. И вероятно, политические проявления националистического чувства стали бы гораздо умереннее, если бы националисты так же остро чувствовали несправедливости, совершенные их нацией, как они чувствуют несправедливости, совершенные по отношению к ним.
Но есть и другие, гораздо более существенные соображения, связанные со специфической природой того мира, в котором нам довелось жить и который восстает против всякого беспристрастного, общечеловеческого, благоразумного национализма. Можно представить это самым элементарным образом. На земле существует огромное количество потенциальных наций. На нашей планете есть также место для определенного количества независимых или автономных государств. Всякий разумный подсчет покажет, что число потенциальных наций по всей видимости намного, намного больше, чем число возможных жизнеспособных государств. Если этот аргумент, или расчет, верен, то не все националистические интересы могут быть в равной степени соблюдены, во всяком случае одновременно. Удовлетворение одних приводит к ущемлению других. Весомым подкреплением этого аргумента является и тот факт, что очень многие из потенциальных наций не живут или до недавнего времени не жили территориально сплоченными группами, а перемешаны друг с другом в самых сложных соотношениях. Отсюда следует, что территориальная политическая единица может стать этнически однородной только в том случае, если будут истреблены, изгнаны или ассимилированы все инородцы. Их нежелание мириться с подобной участью может сильно затруднить мирное осуществление националистического принципа.
Конечно, к этим определениям, как и к большинству определений, следует подходить здраво. Националистический принцип, как он определяется выше, не нарушается проживанием в стране небольшого числа иностранцев или единичными случаями появления иностранцев, скажем, в правящей национальной фамилии. Сколько именно инородцев должно оказаться в стране или среди представителей правящей верхушки, чтобы этот принцип можно было действительно считать нарушенным, трудно установить с точностью. Нет такого рокового числа, которое отделяло бы момент, когда с присутствием иностранца еще смиряются, от момента, когда к нему начинают относиться враждебно и его жизнь оказывается в опасности. Нет сомнения, что это число меняется в зависимости от обстоятельств. Однако невозможность назвать применимую ко всем случаям и точную цифру не умаляет полезности определения.
Наше определение национализма базировалось на двух еще не разъясненных терминах: «государство» и «нация».
Обсуждение вопроса, что есть государство, можно начать со знаменитого определения Макса Вебера [1]: это такая организация внутри общества, которая владеет монополией на законное насилие. Заключающаяся в нем идея проста и притягательна: в хорошо организованных обществах, в каких большинство из нас живет или стремится жить, частное или групповое насилие считается беззаконием. Сам по себе конфликт не беззаконен, но его решение при помощи частного или группового насилия не допускается. Насилие может применяться только центральной политической властью и теми, кому она дает такое право. Из различных мер поддержания порядка крайняя мера — сила — может применяться только одной специально созданной, четко обозначенной, строго централизованной, дисциплинированной организацией внутри общества. Эта организация или совокупность организаций и есть государство.
Идея, вложенная в это определение, очень созвучна нравственному ощущению многих, возможно, большинства членов современного общества. Однако она не вполне удовлетворительна. Существуют «государства» или по крайней мере объединения, которые естественно было бы так называть, не пользующиеся исключительным правом на законное насилие на территории, которую они более или менее успешно контролируют. Феодальное государство зачастую ничего не имеет против междоусобных войн вассалов, если они при этом не забывают о своих обязанностях перед сюзереном; или же государство, где сосуществуют разные кланы, зачастую ничего не имеет против кровной мести, пока враждующие стороны не становятся угрозой для мирных людей на больших дорогах или в общественных местах. Иракское государство, находившееся после первой мировой войны под британской опекой [2] мирилось со стычками племен при условии, что их участники послушно сообщали в ближайший полицейский участок об их начале и завершении и составляли подробный бюрократический отчет о количестве убитых и захваченных трофеях. Короче говоря, бывают государства, которые либо не желают, либо не могут обеспечить соблюдение своей монополии на законное насилие и которые при этом, бесспорно, остаются во многих отношениях «государствами».
Читать дальше