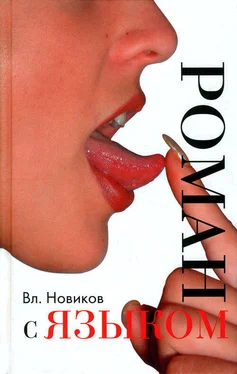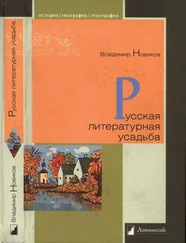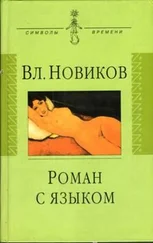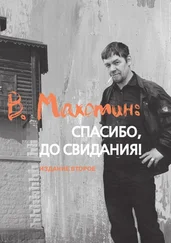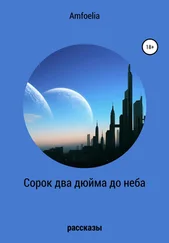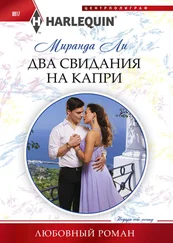И опять я возвращаюсь к тяжелым телевизионным воспоминаниям. Молодой человек получает вопрос: «Какое слово придумал поэт Хлебников — „самолет“ или „летчик“?» Толковый третьеклассник, ей-богу, мог бы вычислить: в народных сказках встречается «ковер-самолет», стало быть, это слово существовало задолго до появления аэропланов и письменной поэзии. Так что изобрести слово «самолет» никакой поэт не мог, надо выбирать «летчика». (Это, впрочем, только устойчивая легенда, что именно поэт-футурист ввел слово «летчик» вместо «пилота» и «авиатора», но сейчас мы в такие тонкости не вдаемся.) А самое же грустное, что незадачливый участник передачи, не сумев ответить, задумчиво изрек: «Знать бы еще, кто такой Хлебников!» Мало того, что не сообразителен, так еще и кичится на всю страну своим дремучим невежеством! Не помню, кто он был по профессии, но сдается мне, что такие люди и на своем рабочем месте не очень полезны.
Милые «Незнаю»! Имейте совесть!
«Судить писателя по законам, им самим над собой признанным». «Поэзия в его стихах и не ночевала». «Выдавливать из себя по капле раба».
Вот наудачу три выражения, прочно вошедших в русский язык и часто используемых интеллигентными людьми в спорах о жизни и о литературе. Объединяет эти броские формулы одно: все они пришли в нашу культуру из писем. Пушкин писал Бестужеву, Тургенев — Полонскому, Чехов — брату Александру. Адресатами же в итоге оказались мы с вами. Выдернули оттуда фразы, чуть переиначили (я нарочно привел их в том виде, в каком они чаще всего фигурируют как факты языка) и применяем к нынешней реальности.
А вообще-то всякое письмо — ценность. Я, конечно, имею в виду не «имейлы» и не эсэмэски, а настоящие письма. Положить перед собой лист бумаги, пройтись по нему собственным неповторимым почерком, вложить в конверт, аккуратно вывести имя того, от кого предстоит теперь ждать ответа… Подышать на клеевой слой и провести по нему языком… Вот письмо упало на дно почтового ящика, и что-то екнуло в груди. Произошло событие.
Часто ли мы сегодня позволяем себе эту роскошь? Не уходит ли из жизни традиция «почтовой прозы», продолжат ли ее наши дети и внуки? Хочется поговорить об эпистолярном этикете, который мое поколение усвоило от тех, кто состоял в переписке с кумирами Серебряного века. Когда знаменитый пушкинист Сергей Михайлович Бонди показывал нам маленькое письмецо от Блока, мне бросилось в глаза, что на конверте было полностью выведено имя, отчество и фамилия двадцатидвухлетнего адресата. Знаете, с тех пор и я никак не могу написать сокращенно: «И. И. Иванову», разве что на конверте с официальным посланием. Пусть назовут меня старомодным, но знакомого, а тем более близкого человека обозначаю полным именем.
Далее. Обращение «уважаемый» у нас считалось минимально вежливой и довольно сухой, официальной формой. Адресуясь к людям авторитетным, мы начинали письмо с эпитета «глубокоуважаемый», и в ответ такого же удостаивались. Составляя двадцать с лишним лет назад «Энциклопедический словарь юного литературоведа», я вступал в переписку с Лихачевым, Лотманом, Гаспаровым. Первый раз мы друг друга называли «глубокоуважаемыми», а потом переходили на «дорогой». Таков был академический канон. А поэт Давид Самойлов, написавший для словаря по моей просьбе статью о рифме, сразу начинал с «дорогого» как личность творческая и более раскованная. Так что, дорогой читатель, не стесняйтесь в письмах к знакомым лицам пользоваться этим любезным эпитетом. Никакой излишней интимности в нем нет. По-английски, кстати, даже деловое письмо начинают с «Dear Sir», так что это стандарт и международный.
Что касается основного содержания письма, то это уже вопрос не этикета, а этики. Считалось в старые добрые времена, что хорошо писать письма — значит не столько «самовыражаться», сколько обращаться именно к данному собеседнику, о нем думать больше, чем о себе. Именно так, деликатно и самоотверженно, Юрий Тынянов вел эпистолярный диалог с Виктором Шкловским (их переписка стоит доброй сотни книг по теории литературы). А вот Шкловский был эгоцентриком, даже в письмах «вещал» всему человечеству. Однако при этом был самокритичен. В своей лирической книге «Zoo, или Письма не о любви» (романе, построенном в эпистолярной форме), он дал слово не только самому себе, но и возлюбленной, и от ее имени сыронизировал: «Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви… Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем „как“ я начинаю думать о постороннем».
Читать дальше