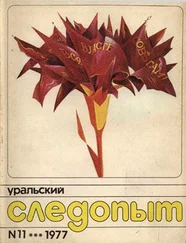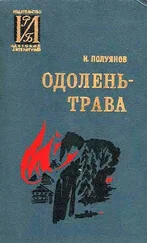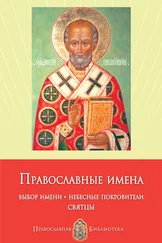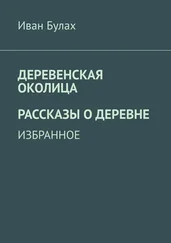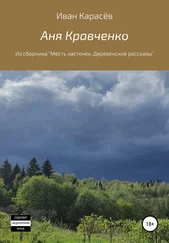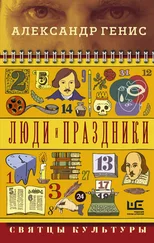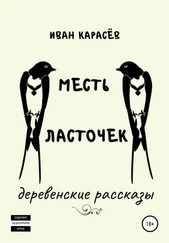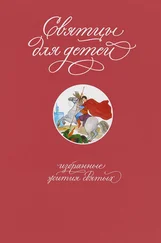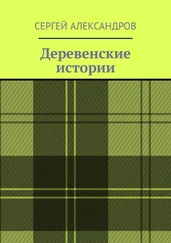31 января — Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337). Преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550).
* * *
Рассвет занимается с обещанием сказки впереди, но город топит стынь и хмарь. Тусклы огни уличных фонарей, еле различима иллюминация праздничной елки посреди площади.
У автобусных, троллейбусных остановок толчея. Пар от дыхания, визг снега. Говор, смех:
— Ух, хватает Варюха за ухо!
— Крыша зимы — чего ты хочешь…
— Почему тогда говорят: Новый год — к весне поворот?
Присловья деревенских устных численников, мне их услышать, унесут крылья памяти прямо в детство, к избе окнами на лес, и сердце вдруг сожмет тайная печаль.
С кем ею поделишься? Не мы ли последние, у кого перед глазами угасали остатки заповедной древности? Не с нами ли уйдет то завещанное веками, о чем сожалеем запоздало: зря отказались, досада, наследия не сберегли?
Искони крестьянству, городским низам служили необычные календари — численники без чисел, хранимые расхожей молвой. Зачем бы понадобились цифры, если раньше сыщи-ка день без прозвища, образных, легко запоминаемых примет, которые были постоянно на слуху.
Полевые работы и строй семьи, по дому хлопоты и раздольные гулянья: находилось в годовом круге место звону колоколов с холма, увенчанного храмом, и березе-имениннице, гонкам троек по раннему снежку и раздумьям о житье-бытье под стрекот запечного сверчка…
Красочность сопутствующих сельской жизни праздников, лада и склада поверий, обрядов, стихия песенности, одухотворенное отношение к окружающему миру привлекали В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, А.Н.Островского, многих и многих писателей, композиторов, художников. Собиратель народной мудрости В.И.Даль выдержки из устных месяцесловов вставил в том «Пословиц русского народа», постоянно делал на них ссылки в своем знаменитом «Толковом словаре».
После революции, на численники без чисел наложен был негласный запрет ревнителями атеизма. Затем о них замолчали вообще. Дескать, деревне даже слово «календарь» было неизвестно, а к северу от Вологды и подавно, прозябавших в патриархальщине, полудикости и самой настоящей дикости.
Имела ли деревня раньше собственный численник, решайте вы.
Однако свода устных крестьянских календарей, научного, с комментариями специалистов, нет и, видимо, не будет: упущено время.
Сейчас должен предупредить: я человек без родины — той малой, ничем не заменимой, где мир постигал, и деревья, муравейники троп через Гольцово, Брызгаловские, Кокорник, Пошкало узнавал по обличью, точно знакомых, и речка Городишна была самой прекрасной на свете. Нас тысячи тысяч, у кого родная деревня не сметена ураганом войны, не на дне рукотворного моря-водохранилища, то обескровленная, обезлюдевшая вкрай захирела, позаброшена, заодно с пашнями, покосами. Лишь в моем Нюксенском, бывшем Сухонском, районе Вологодчины из более чем полутысячи населенных пунктов к 90-м годам сохранилась разве что треть, причем в десятках их уж никто не живет. Догнивают избы, подчас рядом с развалинами церквей с кладбищами, зарастающими мелколесьем, — и это везде, и это всюду.
Обзор уцелевшего от устных календарей, того, что удалось собрать, мной поименован «деревенскими святцами», охвачены им территории как раз к северу от Вологды. По Сухоне, Двине, Печоре, в Поморье дольше сохранялся исконный уклад хозяйствования, мирская артельность. Ну а почему святцы? В память о давнем, что встарь было свято, чему деды-прадеды молились и о чем горе мыкали. Вспомним о ноше, какую несли предки из века в век, — кому она нынче по плечу?
Итак, «году начало, зиме середина» — с января возьмем зачин.
По телевизору бой курантов. Волнующий аромат хвои. Музыка, улыбки. Хочется верить: тревоги, разочарования, несбывшиеся надежды за порогом прошлого.
Дед Мороз, юная Снегурочка в кокошнике. У нее — румянец во всю щеку, ниже пояса коса, у него — шуба, по плечам белый мех, подарков детям полный мешок.
А борода, борода-то седая: небось дед в тыщу лет!
Стар, знаете, он не очень. В древности счет годам велся с весны, от мартовских ручьев-подснежников на юге, от капелей на севере. Не уместней был бы Дед Мороз, когда Новогодье в XV веке переставилось к началу осени.
31 августа 7207 года в полночь Петр I подал сигнал выстрелом из пушки. Малиновым звоном залились колокольни Москвы. С Новым годом, с новым счастьем! Вдруг в декабре глашатаи возвестили указ: впредь лета счислять не с 1 сентября и от сотворения мира, но с 1 января и от Рождества Христова. То есть грядет, православные, 1700 год!
Читать дальше