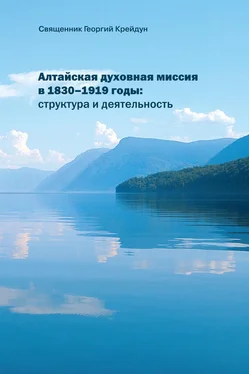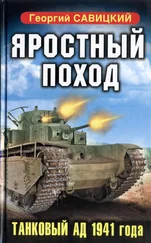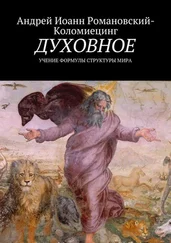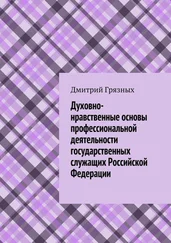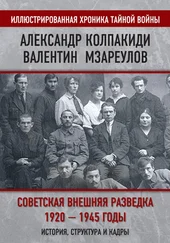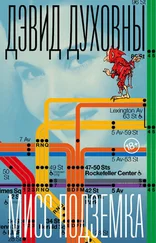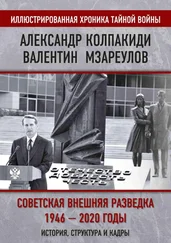История храмов, принадлежавших Барнаульскому духовному правлению, начинается с Бийской крепости (позднее – г. Бийска), жители которой и позднее, по свидетельству очевидцев, отличались особой набожностью и духовностью. И. Шредер в «Моих путешествиях по сибирскому Алтаю», впервые изданных в Лозанне в 1896 г., писал, что город Бийск отличается от прочих в Томской губернии большим количеством православных церквей; все храмы содержались в образцовом порядке и почитались местными жителями, а обыватели города были весьма доброжелательными и набожными людьми.
Летом 1719 г. служилыми казаками Бикатунской крепости была срублена небольшая часовня. «Малые колокольцы да алтарные образа» были привезены для нее из Кузнецкой крепости, а большой колокол и прочая церковная утварь – из Тобольской [76]. Таким образом, часовня была построена уже на следующий год после постройки новой крепости (прежнюю крепость сожгли джунгары). Такая поспешность объяснялась отдаленностью ее от ближайшего приходского храма, что было очень неудобно для удовлетворения духовных нужд жителей. Этот фактор был важнейшей движущей силой для разрастания системы приходов на осваиваемых землях и при вновь построенных заводах [77]. К началу 1736 г. на территории края было срублено три храмовых постройки, которые «обретались более чем за двести верст» друг от друга [78], в том числе часовня в Бикатунской крепости и церковь в Белоярском остроге. Третьей была церковь Воскресения Христова, построенная в поселке Колыванского медеплавильного завода (теперь это рабочий поселок Колывань Курьинского района Алтайского края).
К 1748 г. на территории будущего Барнаульского Заказа было шесть церквей [79]. Таким образом, число православных храмов на протяжении всего этого периода продолжало оставаться небольшим, несмотря на объективные предпосылки, способствующие быстрейшему развитию системы приходов: территория продолжала активно заселяться, количество населения, нуждавшегося в церковной молитве, быстро росло. Это объясняется позицией горнозаводского начальства, не желающего тратить много денег на «второстепенные расходы». Однако переход демидовских заводов в императорскую собственность и образование в Барнауле Духовного правления дало мощный импульс этому процессу.
Алтайцы кочевали южнее русских пограничных линий. Уже с начала XVIII в. алтайцы начали переходить в русское подданство. Это было вызвано, с одной стороны, обострением противостояния джунгарских феодалов Цинской империи, а с другой стороны – угрозой порабощения алтайцев Цинской империей. В 1707 г. алтайские «князцы» отправили посольство в Томск с обещанием принять русское подданство со всем народом при условии защиты их от китайцев [80]. Согласно исследованиям ученого из Новосибирска М. Н. Колоткина, наибольший расцвет миссионерской деятельности на Алтае в XVIII в. приходится на 50-70-е гг [81].
В 1754 г. протопоп Симеон Мефодиев сообщил в Тобольск о 47 инородцах, принявших крещение. У всех крестившихся восприемниками были служивые казаки Бикатунской крепости [82]. В доношении протопопа Симеона Шелковникова говорится о крещении в 1757 г. в районе Телецкого озера 82 телесов в возрасте от одного до 74 лет. Все крестившиеся получили русские имена [83]. В том же 1757 г. протопоп Василий Иванов из Барнаульского духовного правления произвел крещение 144 человек из числа алтайцев при Колывано-Воскресенском заводе [84]. Здесь крестились в основном семьями, а среди крестных отцов подавляющий процент составляли служивые казаки Колывано-Кузнецкой линии. Все аборигены при крещении были «обучаемы краткими молитвами», и все они «дабы соблагославительно было оным новокрещеным за принятие святого крещения, были пожалованы трехлетней льготой и вознаграждением» [85].
Но наибольшее число «инородцев» было крещено в 1758 г. Протопоп Василий Русанов и архимандрит Михаил в том году окрестили 775 бывших подданных «Зенгорской землицы», из них алтайцев было около 100 человек. В Бийской крепости тогда было крещено 16 человек (4 семьи). 84 телеута крестились в Усть-Каменогорске. Наличие среди восприемников значительного числа служилых людей дает основание полагать, что не специально призванные миссионеры, а священники крепостей и укрепленных казачьих линий с преданными им служилыми казаками играли ведущую роль в деле распространения христианства среди инородцев Алтая в XVIII в. В подтверждение этому добавим, что в период с 1763 по 1789 гг. во всей Тобольской епархии насчитывалось всего два священника, призванных заниматься миссионерской деятельностью, да и то деятельность их была прекращена в 1789 г. специальным постановлением Синода [86].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу