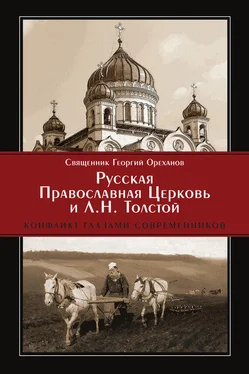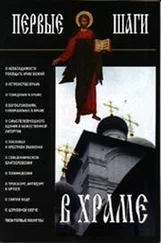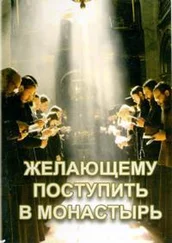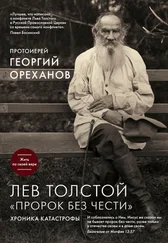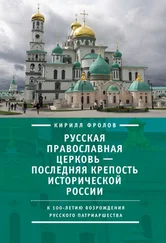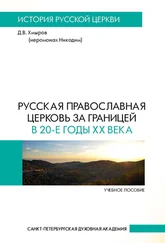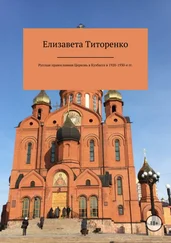Эта проблема получила развитие в монографии М. Дерне, которая имеет характерный подзаголовок: «Две христианские утопии». М. Дерне показывает, в чем заключается актуальность религиозного творчества двух великих русских писателей для современного мира, в чем сходство тенденций развития этих творческих импульсов. Это особенно важно с точки зрения соотнесения этого творчества с традиционным христианским учением, а также анализа в произведениях писателей мотивов социальной утопии с христианскими корнями.
Очень значительным по своим возможным результатам является швейцарский проект, начатый группой ученых трех швейцарских университетов в 2004 г. Авторы проекта ставят перед собой следующую научную задачу: в преддверии столетия со дня смерти Л. Н. Толстого «дать достойную оценку Л. Н. Толстому не только как “гениальному художнику”, но также как оригинальному религиозному мыслителю, который придал ценные импульсы в первую очередь евангелической теологии, а также в целом европейской философии» [19]. Результаты проекта в двух объемных томах должны быть опубликованы осенью 2010 г. Таким образом, проект в первую очередь связан с богословским исследованием творчества Л. Н. Толстого, но отдельные исторические аспекты темы найдут отражение во втором томе.
Говоря об отечественной историографии, следует заметить, что хотя отдельные вопросы, связанные с темой монографии, затрагивались и в «доперестроечной» литературе, серьезную научную разработку намеченная в дореволюционную эпоху проблематика получила только в последние 20 лет. Это замечание прежде всего относится к работам Г. Я. Галаган, А. В. Гулина, В. А. Котельникова [20], которые посвящены генезису и эволюции религиозных взглядов Л. Н. Толстого и их отражению в его художественном и философском творчестве. В этих исследованиях не только констатируется очевидный факт глубокой мировоззренческой соотнесенности творчества писателя с православной традицией, но и предпринимаются содержательные попытки выявить корни этого явления.
Отметим в этой связи первую главу монографии Е. В. Николаевой «Художественный мир Льва Толстого. 1880–1900 годы» (М., 2000), которая связана непосредственно с проблемой исторического контекста, определявшего творчество Л. Н. Толстого. Исследовательница показывает, что для второй половины XIX в. характерны поиски «новой религиозности» и «образа Христа» в литературе, живописи и музыке, поиски, обусловленные в значительной степени евангельскими мотивами и христианскими традициями русской культуры. В этом же направлении движутся поиски литературоведа А. Б. Тарасова [21], объектом научного интереса которого является преломление в художественном творчестве Л. Н. Толстого традиционных для богословского дискурса понятий «праведность», «святость» и пр.
Однако, к сожалению, в последнее время в литературе о Толстом присутствуют примеры научного невежества и трафаретности, связанные с элементарной богословской неосведомленностью. В подтверждение данного тезиса приведем только один опус. Современный автор, говоря о реформаторских устремлениях Л. Н. Толстого, указывает: «Эта надежда привела Толстого к новому представлению о Боге, к новой религии, существенно отличавшейся от канонического христианства. Опору для такого отличия он нашел в сопоставлении первоначальных текстов Евангелия (для чего ему пришлось освоить древнееврейский язык) с тем, что звучало с амвона Церкви» [22]. Автору озвученного тезиса не приходит в голову, что «первоначальные тексты Евангелия», да еще на древнееврейском языке, существуют только в его фантазиях.
Кроме того, не все ученые освободились от тяжелого идеологического груза советской эпохи: часто в добротных трудах присутствует явное или скрытое желание возложить на Церковь вину и ответственность за судьбу Л. Н. Толстого. В этом смысле характерна книга А. М. Зверева и В. А. Туниманова «Лев Толстой» (М., 2006), вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Ее авторы, совершенно не понимая, что есть по существу своему Церковь, с пафосом утверждают, что Толстой в своих кощунственных 39-й и 40-й главах первой части романа «Воскресение» стремится «показать ложь, фальшь, примитивный обман ритуального представления» о религии [23]. Очень характерно также описание в книге пребывания Л. Н. Толстого в Оптиной пустыни – описание лаконичное и предельно скупое на подробности, с такого рода примечаниями: «К старцам-отшельникам идти не собирался, если не позовут. Разумеется, не позвали. В Оптиной пустыни делать было нечего и опасно долго задерживаться. Оставалось повидать сестру, проститься перед дальней дорогой» [24]. Непонятно, как здесь могло появиться это безапелляционное «разумеется» и как можно всю драматическую встречу писателя с сестрой-монахиней сводить только к желанию «проститься», когда сам писатель ясно заявлял о своем желании не уезжать от сестры и встретиться со старцами.
Читать дальше