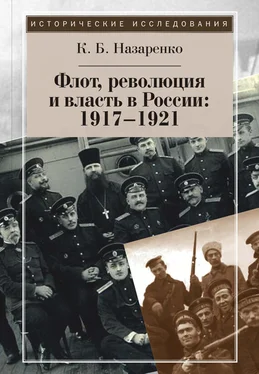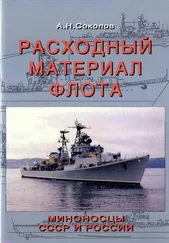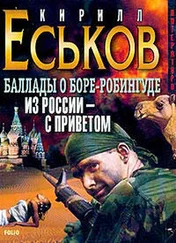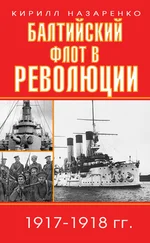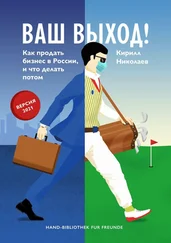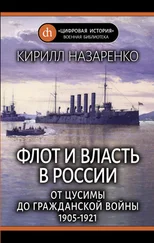Встает вопрос: почему до конца XIX в. «резко проведенная грань», отделявшая офицеров от нижних чинов, не воспринималась солдатами и матросами как нечто ненормальное, а в начале ХХ в. начала вызывать острое неприятие, перерастающее в активный протест с их стороны?
Вот что думал об этом капитан 2 ранга царского флота и контрадмирал советского флота В. А. Белли: «Два крупнейших фактора определяли состояние флота в то время: революция 1905 г. и русско-японская война 1904–1905 гг.» По его мнению, во второй половине XIX в., на парусно-паровых кораблях с «ничтожной техникой… взаимоотношения офицеров-дворян и матросов-крестьян были сходны со взаимоотношениями помещиков с крестьянами и отражали картину, общую для всей Российской империи. Хотя в конце XIX и в начале ХХ столетия команды броненосного флота комплектовались уже в значительной степени из промышленных рабочих, все же взаимоотношения между офицерами и матросами оставались прежними. Совершенно очевидно, что в новых условиях на кораблях с обширной и разнообразной техникой это явление было полным анахронизмом, но никто из руководства морского ведомства не обращал на это внимания, и все шло по старинке, как, впрочем, и во всей жизни Российской империи» [196]. В. А. Белли пишет: «Имевшие место революционные выступления на кораблях были тесно связаны с постепенно обостряющимся антагонизмом между офицерами и матросами. До русско-японской войны офицеры имели несомненный авторитет во всех областях военно-морского дела. После тяжелых поражений в эту войну авторитет офицеров как непревзойденных специалистов, упал, оказавшись подлинным мыльным пузырем в глазах подчиненных им команд. То, что я сейчас сказал, не относится, разумеется, ко всем офицерам вообще. Такое мнение было бы совершенно неправильно, глубоко несправедливо… Однако флот был разбит, этого факта снять со счетов было нельзя, и это как нельзя больше дискредитировало корпус морских офицеров вообще. <���…> Патриархальность взаимоотношений на кораблях… заменилась взаимной настороженностью, переходившей иногда в явную ненависть. Особенно ясно это можно было заметить со стороны матросов-специалистов из бывших рабочих и по отношению офицеров к этой категории матросов» [197]. «До [русско-японской] войны матросы называли кадет или гардемарин просто “барин” или “барчук”… После 1905 г. такое обращение полностью перестало существовать, уступив место официально установленному обращению “господин гардемарин”. По отношению к кадетам, а иногда и к гардемаринам, просто употреблялось обращение “вы”» [198].
После отмены крепостного права начинается рост чувства собственного достоинства среди крестьян и, в особенности, рабочих. До отмены крепостного права дворяне искренне воспринимались массовым сознанием непривилегированных сословий как особая, высшая порода людей. Выслужить офицерский чин, а с ним и дворянство было заветной мечтой солдата и матроса. Особое положение дворян резко подчеркивалось освобождением их от телесных наказаний, от рекрутской повинности, «благородным» обращением между собой и, самое главное, правом владеть крепостными. В результате отмены крепостного права, рекрутчины, телесных наказаний, развития системы образования, а главное, развития капиталистических отношений, дворянство стало терять ореол избранности и притягательность в глазах выходцев из низших сословий. Представление о том, что барин сделан из другого теста, уходит в прошлое.
В армии и на флоте этот процесс был скрыт за внешними формами субординации. Не слишком наблюдательные офицеры продолжали снисходительно-покровительственно смотреть на матроса как на низшее, но, по сути, доброе существо. В то же время для достаточно развитого чувства собственного достоинства матросов становились все более нестерпимыми уставное обращение на ты, унизительные запреты, наподобие запрета посещения Летнего сада, запрета ездить на извозчике, запрета находиться в салоне трамвая, запрета курить на улице, запрета на посещение императорских театров, необходимость есть из общего бачка, становиться во фронт перед генералами и адмиралами и т. д. Осознание полной невозможности самому стать полноправным строевым офицером делало это чувство у матросов еще более сильным.
Проблема изменения отношений между офицерами и матросами не была тайной для проницательных руководителей ведомства. А. А. Ливен, занимавший в 1911–1914 гг. пост начальника Морского Генерального штаба, выпустил книгу, посвященную вопросам обучения и воспитания личного состава. Редко от высокопоставленного офицера того времени можно было услышать столь резкую оценку политического состояния флота: «Наши нижние чины вовсе не в наших руках, и настроение их вполне зависит от политических течений в народных массах. Они тесно связаны с толпой и резко отделены от своих начальников» [199].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу