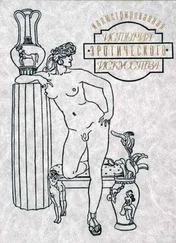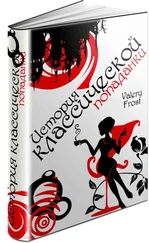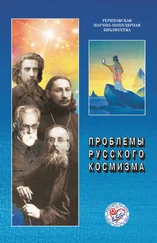Все системы философии, по Дону, в конце концов, сводятся к одной из двух философий: умозрительной (contemplative) и опытной (expérimentale). В то время как «одна есть картина идеального или воображаемого мира, другая есть образ или по крайней мере эскиз действительности» [245]. Уже здесь на лицо указанные выше недоразумения эмпиризма: «идеальное» понимается как « воображаемое », чем оно уже оказывается опороченным, как метафизическое, а в то же время « образ действительности» провозглашается научной задачей. Если за этим «образом» нет никакой трансцендентной реальности, т. е. если метафизика во что бы то ни стало должна быть изгнана, то ясно, что остается допустить только внешнее отношение к «действительности» и на этом закончить задачу науки. Другими словами, нужно или отказаться от «объяснения» или принять внешние же постоянства за факторы объяснения и источники закономерности. Дону рассуждает: «Если даже верно, что созерцательная метафизика с пользой может применяться в известных областях духовной работы, – чего я не думаю, – то все же она оставалась бы несовместимой со всем тем, что есть история, будь то история природы или общества. Дело в том, что историческое есть только то, что положительно и признается реальным; здесь речь идет о собирании и оправдании чисто внешних фактов». Дону, следовательно, не допускает того принципиального отношения к историческому предмету, когда его идеальное усмотрение ведет к такому раскрытию внутренних оснований предмета, которое не будучи эмпирическим, не является также метафизикой трансцендентной реальности. Но методологию скорее уж можно построить на метафизике, чем на отказе от какого бы то ни было предмета кроме эмпирической «внешней» данности. И если бы этот горячий защитник эмпиризма сообразил, что ни у какой науки, в том числе и у истории, не может быть иной логики кроме рациональной, он, может быть, не так энергично призывал бы своих слушателей к «чистому» эмпиризму.
Факт, что «рационализм» не отрицает проблемы единичного, признает и Дону, но он не видит, что только для рационализма в единичном и есть проблема, и при том для рационализма проблема самая трудная и самая важная. «Это (действительный характер исторического), – говорит он, – признают иногда сами платоники. История, говорят они, по существу есть частное и партикулярное: она имеет содержанием единичные события; ее оттенки должны быть индивидуальны, местны и собственны по отношению к ее различным объектам. Желая схватить общий признак, она становится только туманной: изобразить то, что было доступно зрению, описать внешнюю сторону жизни, вот ее единственная функция. Невозможно выразить более ярко, что истории предназначено изображать внешние факты: познание которых приобретается путем чувств и передается через свидетелей; что следовательно, ее метод – экспериментальный. После подобных заявлений, мы в праве думать, что науке о прошедших фактах нечего считаться с платонизмом, он сам эмансипируется или отчуждается от нее; и, довольствуясь тем, что он руководит изучением вещей общих, существенных, необходимых, составляющих невидимый и внутренний мир, он, по-видимому, пренебрегает тем, чтобы распространить свою власть на изыскания частные и так сказать материальные». Мы ограничимся этой выпиской, чтобы перейти к рассмотрению вопроса, действительно ли рационализм, или как правильно, в конце концов, говорит Дону, платонизм, довольствуется «необходимым» и пренебрегает проблемой «случайного» или единичного ?
Французская революция сыграла весьма существенную роль во всей европейской истории; в частности, как завершение Просвещения, ее можно считать хронологической датой и для истории немецкого Просвещения. Дело не в том, что иссяк источник новых идей, – заимствования вообще были не так широки, как может казаться, если обращать внимание только на придворные моды, а влияния мало-помалу превращались в источник новых и оригинальных направлений. Не следует игнорировать и того, что, делая заимствования и подчиняясь французскому влиянию, немецкое Просвещение с самого начала имело уже чем вознаградить учителей и во всяком случае имело нечто, что могло предложить в обмен за услугу. Какой-нибудь Мопертюи стоял во главе Академии, основанной Лейбницем, и совершенно очевидно, что влияние Лейбница на людей более чутких и подготовленных к восприятию философских идей, чем Вольтер, не могло ограничиться побуждением к составлению пикантных пародий. Во всяком случае нельзя отрицать влияния, оказанного Лейбницем, например, на Дидро, хотя оно и претворилось в разносторонней, но путанной голове последнего в формы Лейбницу в высокой степени чуждые [246].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу