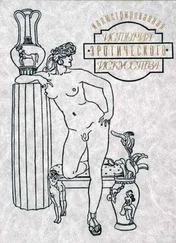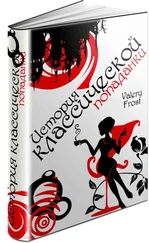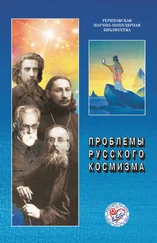Разница Гома с Фергюсоном в том, что Фергюсон сосредоточивается преимущественно на морали и сам морализирует, а Гом собирает, главным образом, этнографический материал, долженствующий свидетельствовать о росте и развитии способностей как отдельного человека, так и в его общественном состоянии. Гом по-видимому думает, что можно теоретически установить никоторые элементы и принципы, которые дают возможность сравнивать различные эпохи и народы, а раз установив их, остается только проследить историю соответственного роста и совершенствования [540].
Итак, в названных произведениях мы ничего не получаем для освещения интересующих нас проблем методологии истории и философии истории, если не считать, что для последней в идее совершенствования или долженствования, направляющих исторический процесс, идее, общей всем названным писателям, выражается не только характерная для философии истории мысль о прогрессе, но вместе с тем выступающий в том моральном истолковании, которое делается потом столь популярным в разных философско-исторических конструкциях и схемах, прием заканчивать «историю» и «историческое развитие» стадией «моральности» и «гуманности». Трудно, конечно, сказать, оказали ли названные писатели непосредственное влияние в этом смысле на Гердера, с одной стороны, и Канта, с другой стороны, а через них и на их последователей, но несомненно, что их излюбленный способ «завершать» ход исторического развития именно таким образом, был плодом рассматриваемой нами подготовительной эпохи для более ясного выделения проблем философии истории. Во всяком случае, теперь и надолго эти «концы» исторического процесса не сходят со сцены философского анализа его.
Другое возможное влияние этих произведений есть психологизм в историческом объяснении. Мы видели, что он был не чужд и чистому рационализму, с идеей психологизма мы встретимся и у позднейшего лейбницеанца Вегелина, но как и у Хладениуса это скорее ultima Thule их стремления найти «внутреннее объяснение» в истории, и во всяком случае оно не носит того наивного характера, где изложение философско-исторических и этнографических фактов просто начинается главой, долженствующей изобразить «историю души», но дающей только скудные сведения из психологии, потом не находящие себе никакого применения [541]. Таким образом, этот психологизм, может быть, проистекавший из правильного в общем чутья необходимости своего, внутреннего, основания в истории, и относительно оправдываемый с точки зрения развитых выше общих соображений, не имеет однако за собою специального методологического оправдания. Напротив, даже приблизительная попытка обратиться к логическому оправданию исторического метода сразу отодвигает его на второй план, его роль ограничивается отрицательным побуждением к положительной работе. Указанную попытку мы встречаем у Вегелина.
4. Логический интерес к истории как науке обнаруживается у Вегелина, хотя и не в форме выделения его в самостоятельную проблему; Якоб Даниель Вегелин (1721–1791), уроженец Швейцарии; был в 1765 году приглашен в Королевскую Академию Наук в Берлине; напечатал в Мемуарах Академии пять статей под общим заглавием «Sur la Philosophie de l’histoire». Это – статьи смешанного характера, но объединенные общей мыслью теоретической оценки истории и ее метода. Меньше всего в них именно «философии истории», а принимая во внимание рационалистическое понимание философии и науки, можно было бы с адекватной точностью передать этот заголовок, как заметки по поводу исторической науки. Вегелин, обнаруживающий и здесь и в своих исторических сочинениях влияния Монтескье и Руссо, в этой работе, насколько речь у него идет о логике исторической науки, опирается на теоретические принципы Лейбница, являясь таким образом, прямым продолжателем дела Вольфа, Хладениуса, и всего рационализма [542]. В целом, следовательно, идеи Вегелина представляются особенно показательными в том смысле, что они являются общим итогом как влияния в Германии французского Просвещения, так и того самостоятельного направления немецкой мысли, которое развивалось на почве вольфовского и лейбницевского рационализма, т. е. Вегелин может служить как раз образчиком отношения к исторической науке в тот «второй период» немецкого Просвещения, начало которого датируется 1765 годом.
Свою деятельность в Берлине Вегелин начинает книгой, по общей идее и плану примыкающей к сочинению Изелина [543]. Однако введением к книге служит не «психологическое рассмотрение человека» на основе эмпирических теорий психологии, а «теория человека», как она понималась в политической литературе французского Просвещения. Вегелин здесь находится всецело под влиянием теорий Монтескье и Руссо. И мы не находим у него применения общих философских теорий рационализма. Скорее можно говорить о сенсуализме автора, когда он не только начинает свои рассуждения утверждением, что «из всех способностей, находимых нами в человеке просвещенном и культивированном, естественный человек обладает только способностью чувствовать» [544], но кладет даже классификацию чувствований, «естественных» (чувства физических потребностей), «нравственных», «религиозных» и «гражданских», в основу деления народов, переходящих от стадии дикости к стадии гражданского порядка. Индивидуальное разнообразие народов объясняется у него не столько их внутренними особенностями, сколько, и прежде, всего, согласно Монтескье, особенностями внешних условий. «Естественные действия, – говорит он, – будучи везде одними и теми же, получают специфические различия от климата и произведений почвы; их повторение превращает их в привычки и последние служат для характеристики народов, как индивидов» [545]. В целом книга не оригинальна и эклектична, в духе времени и Академии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу