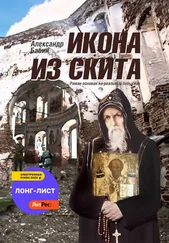В более поздние годы по-прежнему сохраняли особое значение сильная фигура матери, которая, невзирая на страдания, удерживала членов семьи вместе, и бабушки, которая передавала новому поколению веру и фольклор, благочестие и пословицы, то, что содержала в себе русская народная культура [56]. Саму Русь представляли не столько как географическое и политическое единство, сколько как мать (матушку) всего народа, а ее правителя не столько как князя и законодателя, сколько как народного отца (батюшку). Выражение «русская земля» — женского рода и имеет аллегорический смысл, связанный с древним языческим культом «матери сырой земли» среди восточных славян дохристианского периода.
«Земля — вот русская «вечная женственность», а не ее небесный образ; мать, а не дева; плодородная, а не чистая; и черная, ибо лучшая русская почва — черная» [57].
«Дорогой матерью» в самой первой русской записанной песне и «родной матерью» в одной из наиболее популярных песен о Стеньке Разине [58]называли Волгу.
Расширение киевской цивилизации до верховий этой самой широкой реки Евразии оказалось залогом спасения этой цивилизации. Сама негостеприимность северного края была защитой от восточных и западных врагов. Волга служила внутренним водным путем для будущей экспансии на юг и восток, а ее притоки в Северо-Западной Руси почти доходили до верховий других рек, имеющих выход в Балтийское, Черное и арктические моря.
Но борьба за выход к морю и продвижение в степь имела место на более позднем этапе русской истории. А в данный период, по существу, происходило отступление в районы, где основной чертой природного ландшафта были леса.
Говоря об этих землях, русские летописцы XIII и XIV вв. отходят от своей обычной практики называть земли по главенствующему городу и взамен этого употребляют выражение «залесская земля» — как подчеркнутое напоминание, что именно девственная лесная чаща явилась колыбелью великой русской культуры [59]. Даже в новое время в фольклоре говорилось о первобытном лесе, который тянется до самого неба [60]. Леса представляли собой как бы вечнозеленый занавес, в начальный период формирования культуры защищавший сознание от все более отдалявшихся миров — Византии и урбанистического Запада.
Можно без преувеличения сказать, что покрытая лесом равнина определила образ жизни христианского Московского государства в той же мере, в какой пустыня — жизненный уклад мусульманской Аравии. На обеих этих территориях подчас трудно было найти пропитание и дружеское расположение, и славяне, как и семитские народы, развили теплые традиции гостеприимства. Нижние слои — крестьяне — подносили ритуальный хлеб-соль всякому пришедшему в дом, высшие слои — князья — приветствовали гостей пышными пирами и тостами, которые стали характерной чертой официального русского гостеприимства.
Если в знойной пустыне жизнь сосредоточивалась вокруг оазисов и источников воды, то в промерзшем лесу она ютилась в жилищах на расчищенном пространстве с их источниками тепла. Из множества слов, обозначавших жилище в Киевской Руси, только слово «изба» — со значением «отапливаемое строение» — стало общеупотребительным в Московском государстве [61]. Позволение усесться на глиняную печь или возле нее в русской избе было высшим проявлением крестьянского гостеприимства, сопоставимым разве что с глотком холодной воды в пустыне. Жаркая общественная баня также имела полурелигиозное значение, которое и по сей день ощущается в русских общественных парилках и финских саунах и в каком-то смысле аналогично ритуальному омовению в религиях пустыни [62].
Однако в отличие от кочевника пустыни типичный житель Московии был оседлым, поскольку его окружали не бесплодные пески, а богатые леса. В лесу он добывал не только бревна для строительства избы, но и воск для свечей, кору для лаптей и берестяных грамот, мех для одежды, мох для пола и сосновые ветки для кроватей. Тем, кто знал тайные, скрытые от посторонних глаз места, лес также давал мясо, грибы, дикие ягоды и высшее яство — сладкий мед.
В лесу соперником человека в добывании меда был всемогущий медведь, которому принадлежало особое место в фольклоре, геральдической символике и искусстве резьбы по дереву Великой Руси. Согласно легенде, медведь изначально был человеком, которому отказали в традиционном хлебе-соли людского гостеприимства, и в отместку он принял ужасающий облик медведя и скрылся в лес, чтобы охранять его от вторжений своих бывших собратьев. Старинные северорусские обычаи дрессировки и борьбы с медведями в народном воображении связывались с первобытным сражением за лес и его богатства, а также с мечтой об окончательном восстановлении утраченной гармонии между всеми обитателями леса [63].
Читать дальше
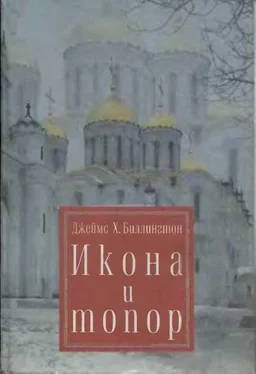
![Евгений Ройзман - Икона и человек [сборник]](/books/27317/evgenij-rojzman-ikona-i-chelovek-sbornik-thumb.webp)
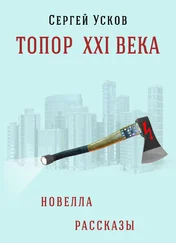

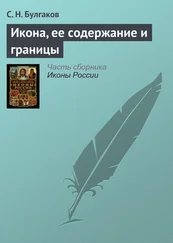
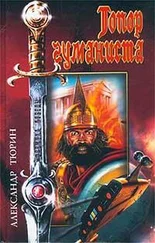

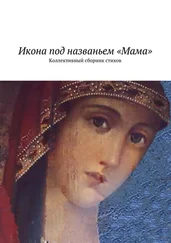
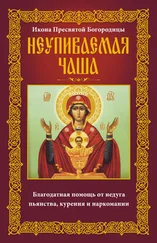
![Андрей Каминский - Черная икона [СИ]](/books/411887/andrej-kaminskij-chernaya-ikona-si-thumb.webp)