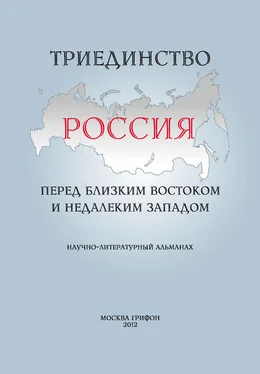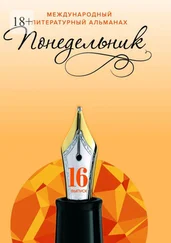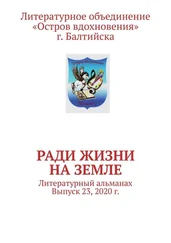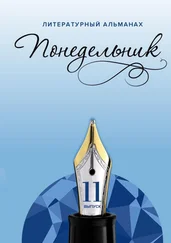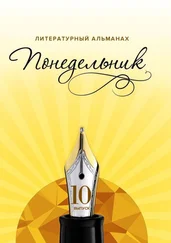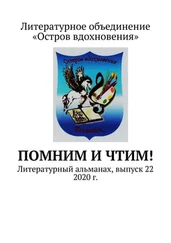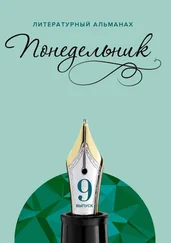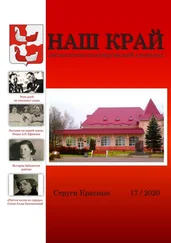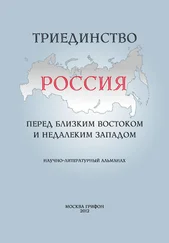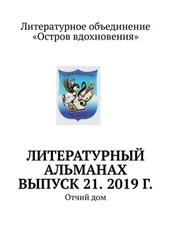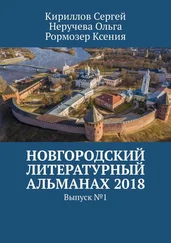Развивая собственный оригинальный подход, Кейнс одновременно опровергал господствовавшую в его время теорию саморегулирования частнокапиталистической экономики, которая у нас получила известность как монетаризм. Прежде всего, Кейнс критиковал идею «невидимой руки», согласно которой рынок настолько умен и хорош, что путем конкуренции автоматически обеспечивает эффективное распределение ресурсов, полную занятость людей, а каждый фактор производства (прежде всего труд и капитал) справедливо вознаграждается в точном соответствии с его вкладом в полученный результат. Приближая экономику к равновесию, рынок якобы ведет к росту благосостояния каждого. Кризис в этой концепции как бы полностью исключался. Кейнс отвергал все эти беспочвенные утверждения. Кейнс предлагал не полагаться только на волю рынка, а воздействовать на экономику методами государственного регулирования. Прежде всего, он имел в виду увеличение занятости и стимулирование инвестиций, в которых предприниматель будет заинтересован тем больше, чем ниже банковская ставка процента за кредит. Поэтому в качестве следующего шага он выступал за низкую ставку, стимулирующую высокую предпринимательскую активность, которую он считал основным мотором экономического роста.
Кейнсианские идеи в 1940-1960-х гг. получили широкое признание и применение. На их основе произошел невиданный рост экономики западных стран и Японии, почему этот период получил название «золотого века» капитализма. В целях кейнсианского регулирования капитализм стал также заимствовать определенные черты социализма. Хотя непрерывного роста экономики не было, что свойственно социализму, а фазы спада даже участились. Вместе с тем они перестали быть глубокими; занятость хотя и не стала всеобщей, как при социализме, но поддерживалась на необычно высоком уровне. На основе роста доходов населения возросла доля его среднего слоя, а накачивание совокупного спроса стимулировало экономический рост.
В результате возникло то, чего раньше не было, а теперь именовалось «кейнсианским государством всеобщего благосостояния». Стало казаться, что периодические спады были досадной случайностью прошлого, и понятие «кризис» было заменено понятием «рецессия».
Но уже в 1970-х годах в мировой экономике произошли две крупные перемены, имевшие далекоидущие последствия. Центр тяжести экономики сдвинулся с реального сектора на финансовый. В то же время международная арена стала в ряде случаев важнее национальной. Этим нуждам теория свободного рынка (laissez faire) подходила намного больше, чем кейнсианство, которое было, во-первых, теорией реального сектора экономики, во-вторых, регулирования ее в национальных пределах. Кейнсианскую теорию символизировал Генри Форд, который стремился к тому, чтобы рабочие его предприятия зарабатывали столько, чтобы покупали его автомобили. Глашатаем возрожденной теории рыночного фундаментализма стала чикагская школа во главе с Мильтоном Фридманом. Ее практическим воплощением явились рейганомика и тэтчеризм. Рьяным практиком этой теории можно считать Джорджа Сороса, не производившего никаких реальных вещей, но заработавшего многомиллиардный куш от спекуляций на фондовой бирже.
Тогда и возникло великое множество отражающих долги ценных бумаг, денежная сумма которых многократно превышала реальную стоимость дома, с которого все началось. Отмечая эту особенность современного капитализма, известный экономист Станислав Меньшиков писал: «Только в США рынок производных ценных бумаг вырос с 2002 года в 5 раз – с 106 триллионов до 531 триллиона. Последняя цифра более чем в 35 раз превышает весь валовой продукт США».
Несмотря на свой отрыв от реальной ценности, долговые бумаги продаются и перепродаются, приобретают свои котировки, ими спекулируют. Поскольку в эту систему втянуты все, а несоответствие доходов населения с расходами чревато невозвратом долга, то от неуплаты в одном звене банкротства могут разразиться по всей цепочке.
Отмеченный сдвиг экономики капитализма от реального к финансово-спекулятивному сектору не мог остаться без последствий. Не все еще ясно, но очевидно, что нынешний кризис не похож на обычный циклический спад. Никакого галопа и процветания («просперити») давно не видно. Наблюдается только вялотекущий рост. Что касается России, то здесь на финансовый кризис наложился еще и свой, национальный, когда страна и так не справляется со своими проблемами. Цикл у нас никак не просматривается. Там, где обрабатывающая промышленность пребывает на уровне двадцатилетней давности или ниже, о фазе подъема говорить не приходится. Нельзя же рост валютных доходов считать равнозначным экономическому росту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу