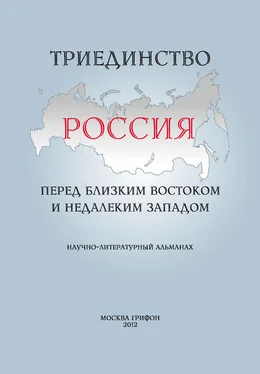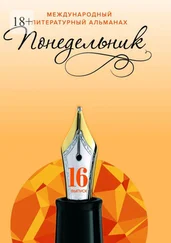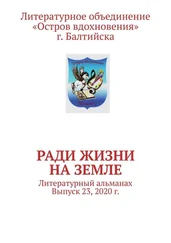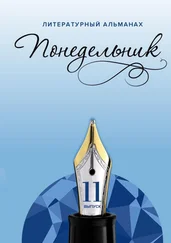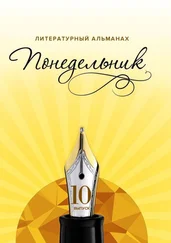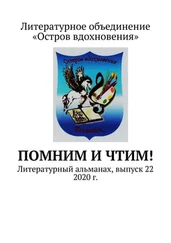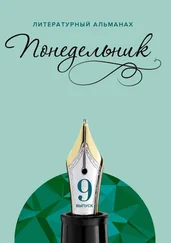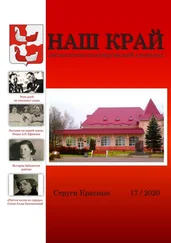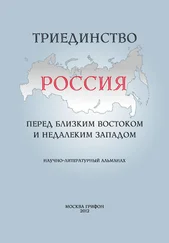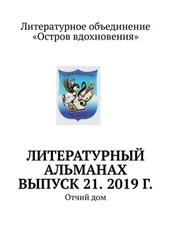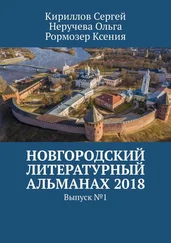Разве не интересен вопрос о том, почему самые лакомые куски российской экономики в одночасье оказались в руках тех, кого потом либо пришлось упрятать в тюрьму, либо по которым плачет тюрьма, либо те, кто спасся от нее бегством из страны? Как случилось, что после выбора Россией столбовой дороги капиталистического процветания страна вначале угодила в дефолт 1998 года, а теперь оказалась в тисках еще более жестокого мирового кризиса?
В утверждение же, что мы просто «напоролись на то, за что боролись», то есть на интеграцию в мировую экономику, следует внести некоторую ясность. Конечно, в глобальном мире не только большая, но и малая страна не может обойтись без включенности в мировую экономику. Вопрос в том, в какой роли она после этого оказывается. Ведь мировая экономика не является ассоциацией равноправных участников. Она имеет еще и структуру, где есть центр и периферия, одни находятся в роли лошадей, а другие – всадников.
Согнувшись в три погибели перед Западом, российское руководство 1990-х годов приняло от него такую модель рынка, по правилам которой нам была отведена роль колониальной периферии развитых стран. Китай ничего подобного не сделал. Он не пошел ни к кому на поклон, а сумел отвоевать для себя роль равноправного конкурента. Думаю, что негативные последствия кризиса он тоже перенесет легче других.
Мы же своими реформами загнали себя в такое неравноправное положение в мире, что из ярма лошади, везущей карету своих господ, нам теперь не вырваться. Что бы мы ни делали, при этой системе всегда будем в проигрыше. Сделавшись энергетическим и сырьевым поставщиком развитых стран, российская экономика обречена на развал, остановить который в рамках принятой модели невозможно. Зато самим реформаторам и всем, стоящим у власти, отведены в ней такие хлебные места, с которых их сдвинуть теперь не просто. Очевидно, обстоятельства пока не позволяют ясно сказать, кто за что боролся, а кто против чего.
Есть могущественные силы, у которых рыльце настолько в пушку, что они насмерть будут стоять, чтобы не допустить даже обсуждения того, как и почему мы оказались в кризисной луже. Но не может же быть, чтобы общество состояло только из них! Остались же в нем не отравленные одной лишь жаждой наживы здоровые силы, для которых будущее страны и народа еще имеет смысл. Кто они и где они?
Об этом нет единства мнений в науке. По представлениям одних, капитализма без кризиса быть не может; по мнению других – кризис преодолим в рамках улучшенного капитализма; а третьи утверждают, что в условиях свободного рынка никакого кризиса вообще не может быть. В спорах на эту тему было пролито много «компьютерных чернил».
По Марксу, спады производства обусловлены природой капитализма, а потому повторяются с регулярной периодичностью через каждые 8-10 лет. В более широком плане он их рассматривал как: а) кризисные фазы циклического воспроизводства капиталистической экономики; б) проявления основного противоречия капитализма, состоящего в том, что производство осуществляется всем обществом, а его сочные плоды присваиваются сравнительно узкой группой частных собственников.
В погоне за прибылью, говорил Маркс, капиталист осуществляет два противоречащих друг другу действия. Одной рукой расширяет выпуск и предложение товаров, а другой – сдерживает зарплату и тем самым спрос на товары. Иначе говоря, капитализм создает диспропорцию между производством и доходами населения. В итоге наступает момент, когда товары не могут быть проданы. Это и есть кризис. Поскольку таков капитализм по своей природе, говорил Маркс, то, не избавившись от капитализма, нельзя избавиться от кризисов.
В написанной задолго до Великой депрессии 1929-1933 гг. работе Джон Кейнс («End of laissez faire») доказывал другое. Свободный рынок доводит неравенство лишь в распределении доходов до опасной черты, а потому предлагал перейти от стихийно функционирующего рынка к регулируемому.
Другая книга Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшая в 1936 году, во многом перевернула прежние представления экономистов, государственных деятелей и бизнесменов относительно способов ведения хозяйства. Справедливость требует сказать, что за несколько лет до Кейнса, а затем параллельно с ним те же идеи развивал польский экономист Михаил Калецкий, позднее признанный даже более последовательным их разработчиком. Но поскольку этот подход получил известность как кейнсианский, то мы тоже будем его так называть, имея в виду наследие обоих мыслителей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу