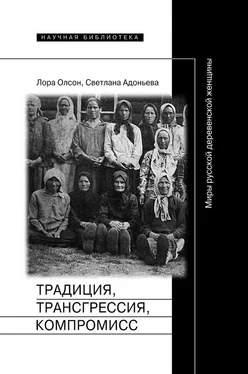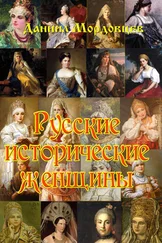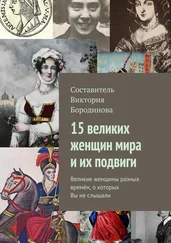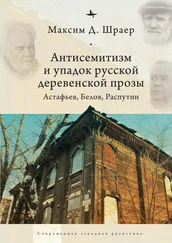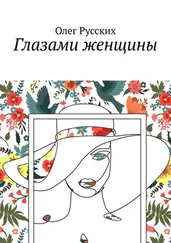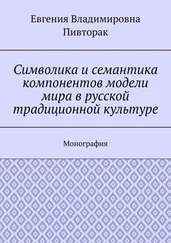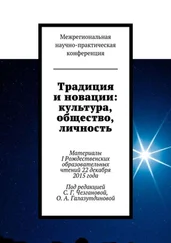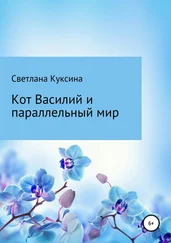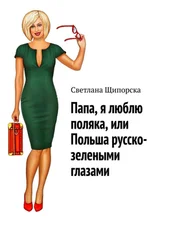Это заключение было сделано Ириной Семаковой, исследовавшей сходное явление среди карел, проживающих у Белого моря. Она пишет: «…почти все женщины беломорской Карелии в той или иной степени были знакомы с рунами, но рассказывали их, как правило, в кругу женщин» [Семакова].
О существующих табу см. [Бернштам 1983: 206]. Кононенко придерживается точки зрения, противоположной той, которую мы описали здесь: вслед за большинством русских ученых, она утверждает, что женщинам «разрешалось» исполнять былины только когда традиция начинала вымирать [Kononenko 1994: 28].
В исследовании 1938 года Астахова изменила это утверждение на противоположное и объявила традицию живой. Однако в связи с политической ситуацией в науке ее ранние формулировки, вероятно, следует считать более достоверными. См. [Былины Севера 1938 – 1951: I, 90, 103 – 104].
Или потому, что, как отмечал один из собирателей, на момент записи большинство мужчин отсутствовали в деревне, находясь на рыбном или охотничьем промыслах. См. [Марков 2002: 1028].
Примечательно, что Е. Барсов, рассказывая о своей первой встрече с Ириной Федосовой перед ее выступлением на заседании Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1896 году, перечислил эпические сюжеты, которые он тогда от нее записал: «о Чуриле Пленковиче и жене Бельмаса, о девяти братьях-разбойниках и обесчещенной ими сестре, а также былина из разряда сказаний о злых матерях, губительницах зазнобушки сыновей своих под заглавием “Софья”» [Чистов 1988: 42].
См., напр.: [Архангельские былины 1904: 187 – 189, 205 – 206, 304 – 320]. Все три былины записаны от женщин.
Ее комментарии к описываемым событиям: «Как еще его ругает!» и «Вот какую грубость сказала!» [Былины 2001а: 647].
Рыбников писал, что эта былина была любима женщинами; тем не менее, мужчины ее также исполняли [Песни, собранные П. Н. Рыбниковым 1991: I, 144 – 146], [Былины 2001б: 454 – 456], [Былины 2004: 666 – 670].
В собрании баллад, которое содержит ряд записанных вариантов этого сюжета, два из четырех записаны от женщин, один – от мужчины, источник же четвертого неизвестен [Баллады 2001: 415].
В современных сообществах такой вариант выхода замуж называется «самоходкой». См. главу 2, а также [Каретникова 2014].
«Ставр Годинович» в [Былины 2001b] представлен четырьмя версиями, записанными от исполнителей-мужчин, и одной, записанной от женщины (бассейн реки Печоры).
По материалам записей интервью, сделанных в 2009 – 2011 годах на Мезени, в отношении таких женщин и в наши дни используют прозвище «полмужичье».
Например, былина о Добрыне и Алеше была записана от 16 женщин и 7 мужчин [Былины 2003]. Другой сюжет – «Добрыня Никитич и Змей» – представлен в третьем томе «Свода русского фольклора» пятью женскими и пятью мужскими вариантами. В них рассказывается о том, как богатырь Добрыня борется со змеем. Былины включают в себя эпизоды, посвященные матери Добрыни: она растила его одна; она предупреждает его, чтобы он не приближался к Пучай-реке, но он отправляется в путь без ее благословения; она дает ему с собой волшебную плетку и говорит, как понукать коня; а также в нескольких вариантах присутствуют эпизоды о поленице Настасье, на которой в некоторых версиях Добрыня женится. См. [Bailey, Ivanova 1998: 81].
Традиция привозить исполнителей былин для выступлений в Москву и Санкт-Петербург началась в 1870-х годах с двух мужчин-сказителей; в 1890-х годах выступал один сказитель; в 1915 и 1922 – Кривополенова; и в 1937 – один мужчина и одна женщина. См. [Соколов 1929].
Как объясняли ученые того времени, дореволюционные исследователи неверно оценивали мастерство этих творцов. См. [Соколов 1939: 9].
Кононенко использует этот факт как свидетельство того, что для женщин свадебные причитания были более важными, чем похоронные.
Более того, предвзятость собирателей, как и предвзятость самих информантов, могла вести к тому, что в собраниях преобладали похоронные причитания на смерть мужчин. Так, одна из исполнительниц причитаний, вспомнив и проговорив речитативом плач, исполненный ею на смерть своего мужа, заметила: «женские города не стоят» (Бел17а-35).
Чистов отмечал, что до появления собранных Барсовым причитаний Федосовой они обычно не рассматривались как самостоятельный жанр [Чистов 1988: 227].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу