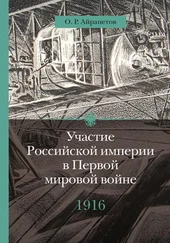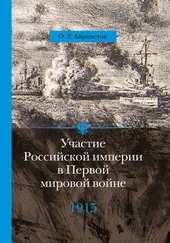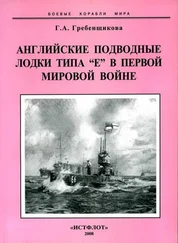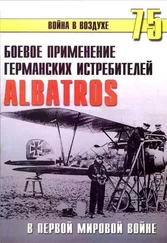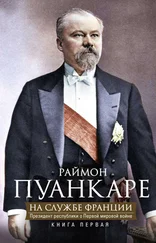К сожалению, далеко не все оказались в состоянии столь трезво оценить уровень грозящей опасности. Может быть, не все воспринимали возможные потрясения как опасность. Когда Нокс попытался обратить внимание Родзянко на опасное положение с продовольствием в тылу и сказал, что даже офицерские семьи не имеют достаточно муки и сахара и что люди завтра могут начать бить окна, последовала удивительная для британского военного атташе реакция: «Он (Родзянко. – А. О.) только рассмеялся и сказал, что у меня горячая голова» 44. На самом деле, основания для беспокойства были. В тылу не было надежной вооруженной силы. Обучение новобранцев-пехотинцев не было поставлено на должный уровень. Несколько лучше дело обстояло в кавалерии и артиллерии.
«Солдаты после двух лет войны в значительной массе также были уже не те, – вспоминал генерал Врангель. – Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на все перенесенные тягости и лишения, втянулись в условия боевой жизни, но остальная масса, те пополнения, которые беспрерывно вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух. Состоя в значительной степени из запасных старших сроков, семейных, оторванных от своих хозяйств, успевших забыть пройденную ими когда-то воинскую школу, они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой… Подготовка пополнений в тылу, обучение их в запасных частях стояли в общем низко. Причин этому было много: неправильная постановка дела, теснота и необорудованные казармы, рассчитанные на значительное меньшее количество запасных кадров, а главное отсутствие достаточного количества опытных и крепких духом офицеров и унтер-офицеров инструкторов. Последние набирались или из инвалидов, или из зеленой молодежи, которой самой надо было учиться военному делу. Особенно резко все эти недочеты сказывались в пехоте, где потери и убыль кадровых элементов были особенно велики» 45. Положение в Петрограде было особенно тяжелым.
Значительная часть солдат запасных полков состояла из жителей столицы, не отличавшихся высокими боевыми качествами. В массе своей это были рабочие, настроенные против войны 46. Поднять их боеспособность власти не могли, как, впрочем, и занять свободное время солдат. В этих условиях запасные части не могли быть поддержкой для фронта, скорее наоборот. Бывший военный министр генерал Редигер с горечью восклицал: «.Да как же и могло быть иначе, когда эти войска почти не имели кадров и в них не было ни порядка, ни правильного обучения, и нижние чины сами видели, что их напрасно призвали!» 47Полковник В. М. Пронин вспоминал: «Это были не солдаты, а одетые в солдатские шинели разных категорий люди, над приведением коих в солдатский вид нужно было и время, и совершенно другая обстановка, и, наконец, что самое важное, достаточное количество хорошего качества обучающего (офицерского и унтер-офицерского) кадра. Обстановка большого города развращающе действовала на запасных» 48.
Казармы были переполнены, койки стояли в три ряда, при отсутствии достаточного числа офицеров и унтер-офицеров контролировать эту массу было очень сложно. С осени 1916 г. нормы пищевого довольствия как на фронте, так и в тылу были сокращены в 1,5 раза. В гвардии нижние чины стали получать по 2 фунта хлеба и 0,5 фунта мяса в день. В тылу было введено 3 постных дня в неделю, в которые вместо мяса солдатам давали треску или воблу. Сокращение было разумным, но встречено оно было крайне неприязненно, тем более что качество пищи часто оставляло желать лучшего. Скудный солдатский паек, наличие соблазна в виде переполненного одинокими женщинами города – все это провоцировало самовольные отлучки. Боролись с ними усилением пропускного режима: переполненные казармы все более походили на тюрьму 49. «По беспечности или отсутствию предвидения, – вспоминал Маннергейм, – в Петербурге не было надежных войск, но только новобранцы и подкрепления, набранные из местных резервистов, большей частью фабричных рабочих. Это было очень необычно для России, где было правило никогда не держать солдат поблизости от их домов» 50.
Большая часть запасных, около 200 тыс. человек, действительно была собрана в 1916–1917 гг. из местного населения, преимущественно из рабочих 51. «Что касается солдат столичного гарнизона, – отмечал великий князь Кирилл Владимирович, – то они были обеспечены всем необходимым и почти ничего не делали» 52. Особенно опасным для правительства подобный гарнизон делала обстановка в столице. Николай II по инициативе генерала Безобразова – командующего Гвардейским корпусом – хотел перебросить в столицу фронтовые гвардейские части еще до болезни Алексеева, однако начальник штаба категорически возражал, и император решил не настаивать. Алексеев аргументировал свою позицию следующим образом: во-первых, он надеялся осуществить весной 1917 г. прорыв на Юго-Западном фронте и наиболее боеспособные части предпочитал держать именно на этом направлении, а во-вторых, по его мнению, казармы Петроградского гарнизона были и так переполнены 53.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
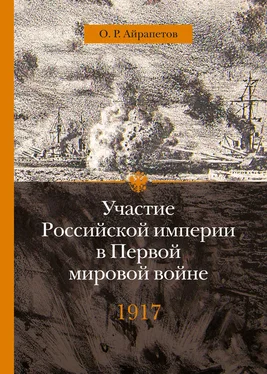
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)