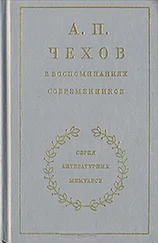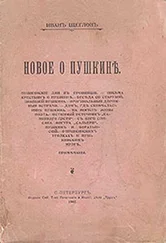– Ольга, – продолжал Алексей Михайлович, – моя старшая сестра, еще до раскулачивания вышла за Максима и уехала в Ленинград. Он кровельщиком работал. Они неплохо жили. Дочка всегда была нарядная, с бантиком на голове и часто пела, когда приходили гости:
Слушай, Оля, вырасту большой –
Мы поженимся с тобой.
Я себе для красоты
Выращу большущие усы…
Ольга с Валентиной всю блокаду пережили. Максим с первых дней служил под Ленинградом.
Валентина уже после смерти матери показывала мне отцовские письма.
В августе сорок первого он просил Ольгу никуда не уезжать, даже если и предложат, потому что скоро все закончится. И сообщал, как лучше к нему добраться, если захотят увидеться: «Сесть на Лиговском на двадцать седьмой трамвай, доехать до завода «Светлана», там пересесть на двадцатый автобус и выйти на станции Девяткино. Тут северные ворота гарнизона. Приезжайте!» «Дочура, тебе, наверное, страшно во время налета варваров? Потерпи еще немного – может, пару недель, а там разобьют прохвостов и выгонят. Тогда вздохнете свободно, и я к вам приеду», – писал он первого октября.
Девятого октября Максим советовал ехать к нему уже на десятом трамвае, до Ржевки, там пройти километров пять к южным воротам. Жаловался на черный липкий хлеб, который им давали: «От него, по-видимому, желудок-то и заболел, а когда воробьиная порция привилась, и болезнь прошла. Теперь все в порядке».
«Семнадцатого октября, – писал Максим, – у меня появилась опухоль на лице, на ногах, на руках. Ходить стало тяжело. Врач освободил меня от всякой работы, а через четыре дня никакой опухоли не нашел. На самом деле она не проходила. Это не только у меня. Половина ходят опухшими. Доктор знает, отчего, но лечить нечем, кормить нечем и освобождать нельзя. Так и служим – как живые трупы, ветром шатает».
«Дома я осуждал Александра, – писал он в конце ноября сорок первого, – считал его бесхарактерным, а последний поступок (самоубийство) – глупым. Теперь понял его душевное волнение, хотя еще не испытал того, что перенес он в прошлую войну. Мне кажется, что он распорядился своей судьбой правильно. Чем мучиться, лучше сразу умереть. Вот и настало время, когда живые завидуют мертвым. Я по себе чувствую, что до конца сорок первого дотяну, а дальше – не знаю».
Двадцать пятого декабря Максим сообщал: «Посылочка меня оживила. Теперь продержусь недели две, а там уже должно быть улучшение, иначе все свалимся. Очень многие болеют – приходится их заменять, работы прибавилось».
Больше писем не было.
Однажды, когда Ольга ушла на работу, моя матушка увидела ее юбку на кровати, проворчала: «Плохая примета». И послала внучку. Ольга не поверила, распахнула пальто – удивилась: стоит без юбки… А вскоре весть о гибели Максима пришла.
Родитель мой умер в феврале сорок второго, а матушка – весной.
Ольга отдавала свою пайку дочери, а сама перебивалась на столовской похлебке. К весне она высохла. Однажды потеряла на работе сознание. Ее положили в заводскую больницу. Двенадцать дней она не приходила в сознание. Врачи не надеялись на выздоровление, утром справлялись: «Смирнова не умерла?» Последние дни Ольга слышала эти разговоры как во сне, но не относила их к себе, а в уме молилась. Солнце ли заглянуло ей в глаза, или на самом деле Ольга видела, как перед ней опускается икона Николая Чудотворца, которая висела дома, она не поняла, но с того дня силы стали прибывать. В День Победы она всем со слезами рассказывала про это видение. Потом за военного вышла и перебралась в Москву.
6
– В День Победы только умершие не ликовали, – подхватил мысль о конце войны Юрий Павлович, внимательно наблюдая за пляшущим поплавком, готовый в любую минуту дернуть удилище. – Радость такой ценой досталась, что невольно все плакали. Заплатили полной мерой. Из эвакуации тоже многие не вернулись. Двор вначале пустой был. Оказывается, Гогочка с матерью еще в марте сорок второго на Ладоге под лед вместе с машиной ушли…
– Матрена моя после войны не захотела в город возвращаться. Как эвакуировалась в сорок втором с дочкой в деревню, так и осталась в родительском доме, – перебросил удочку Алексей Михайлович. – Комнату нашу в Ленинграде снарядом разворотило. Ремонтировать надо было или скитаться по углам. Одним словом, не пожилось ей в Ленинграде. Сказала, век больше в город не поеду. В деревне, мол, все мое: соседи, усадьба, а там – как загнанная. Невский, Садовую не любила из-за толкотни – ходила, когда уже прижмет. А на Сенной рынок – так через дворы с Фонтанки до последнего дня бегала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу