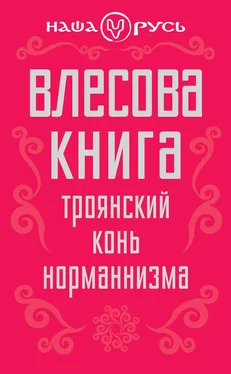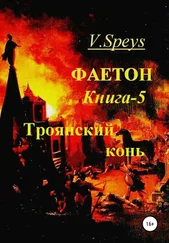На этом можно было бы и разойтись по домам. Но пропагандисты подделки, демонстрируя неуважение к науке, сыплют направо и налево обвинения в «подлогах» и «фальсификациях» именно ученых, косвенно признавая таким образом, что без достоверных фактов знания не бывает.
В «научных» аргументах Асова не последнее место занимает и утверждение, будто Л. П. Жуковская была связана с КГБ, который и заставил ее выступить против «Влесовой книги». Но ведь по такой логике придется считать, что создавали «Влесову книгу» по заданию МОССАДа? Уж не потому ли и загнал Куренков русов в Двуречье, на родину Авраама? И не концепция ли Г. Бараца – известного сионистского деятеля, настаивавшего на еврейском происхождении Руси, подкрепляла аргументацию Куренкова, считавшего, кстати, что никаких славян вообще не было в природе и их придумал летописец XII века? И в свете этой «концепции» замена в переводе куренковских «русищей» «славянами» – очевидный подлог.
B. В. Грицкову досталось за «воспаленное воображение», у которого «на одно верное суждение приходится два неверных по причине малой научной культуры». С высоты «большой научной культуры» Асов дает многочисленным скептикам вопрос: как же «деревянные вещи… поднимают из скифских курганов?». А так и поднимают, чтобы немедленно обеспечить специальные условия хранения. И не только деревянные вещи. Это ведь любому школьнику известно.
И уже совершенно недосягаемой вершиной «научной культуры» является пассаж об академике Д. С. Лихачеве. Оказывается он «глава исторической и палеографической науки», исследующий творчество А. С. Пушкина! Неужели в журнале «Наука и религия», пропагандировавшем «Влесову книгу», никто не знал, чем более полувека занимается Д. С. Лихачев? Или сотрудник журнала таким образом защищается от критики: мол, «неспециалист»! При всех моих расхождениях (и глубоких) с академиком, в вопросе о «подделках» нам довелось занимать с ним близкие позиции, защищая подлинность «Слова о полку Игореве». Для квалифицированного филолога это вообще не слишком сложная проблема – отличить подлинное от фальсификации.
И, наконец, о единственном аргументе Асова по существу: функции бога Велеса. Профессор, оказывается, не знает, что «скот» – это домашние животные. Слова, взятые им в «кавычки», – не цитаты. Цитировать Буса Кресень, А. Асов и А. Барашков пока не научились. Поэтому не стоит за этой троицей говорить о «подлогах». Более того: умноженное наглостью невежество – в данном случае хороший стимул поговорить по существу. Книга названа «Влесовой», и должно предполагать, что и создатели книги и «влесоведы» изучали вопрос о его прерогативах. Но явно недоизучили.
Имя Велеса (Волоса) в качестве «скотьего бога» впервые упоминается в договорах Олега 907 года и Святослава 971-го. Оба договора – относительно вольный пересказ действительных текстов соглашений. Но в данном случае это несущественно, поскольку эти вольные записи появились в составе летописей, видимо, раньше, чем в «Повести временных лет» оказались более приближенные к текстам оригинала договоры 911 и 945 гг. И понять надо именно эпитет «скотий»: что он значил вообще в языческую эпоху и какую роль играл в данных упоминаниях.
Удивительно, но, набрасываясь на оппонента с кулаками, автор не удосужился посмотреть хотя бы словари Даля, Срезневского, Фасмера. Почти два столетия ученые разных стран ищут истоки слова, означающего во многих языках примерно одно и то же: «деньги», «богатство», «имущество» и (очевидно производное) «подать», «налог». Одним из аргументов норманнистов изначально было шведское слово «скатт» – «драгоценность», «сокровище», «клад», а также «налог». Но оказалось, что слово это было известно и готам, и древним саксам, и другим германским континентальным племенам в значении именно денег, имущества.
Мое включение в полемику свелось, в сущности, лишь к тому, что я обратился к трехтомному словарю старой кельтики А. Хольдера, у которого нашел буквальное совпадение с древнерусским, все с тем же значением «имущество», «богатство», «деньги» (см. «Об этнической природе варягов» в журнале «Вопросы истории». М., 1974. № 11). А специального исследования заслуживает вопрос о том, как деньги стали «скотом» в современном понимании.
Но раньше надо точнее определить функции Велеса. Не случайно, конечно, что в договорах дружину и торговцев сопровождают Перун и Велес. Перун – бог дружинников, Велес – бог торговцев. В Х веке дружинник и торговец чаще всего был в одном лице (и дальние походы совершали за моря ради добычи и торговли, а договоры предполагали именно правила торговых отношений). Никакие «стада», конечно, по морям не плавали. Была у Велеса и еще одна функция: он покровитель поэзии. Легендарный Боян в «Слове о полку Игореве» Велесов внук. Иными словами, его функции те же, что и у римского Меркурия: покровитель торговцев, путешественников, служителей муз (а они чаще всего тоже были путешественниками).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу