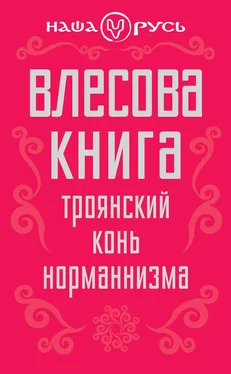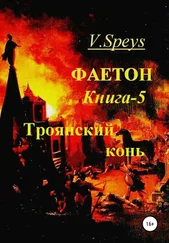Лингвистические особенности «Велесовой книги», неизвестные другим славянским источникам, ее издатель возводит к особому жреческому языку, которым книга якобы написана (с. 233). Такое объяснение сталкивает нас с новыми трудностями. Язычество обычно обходится без священного текста, потому не нуждается в специальном языке, хотя может применять некоторые термины и технические выражения при исполнении ритуала. Если славянское язычество было единым для всех славян, то уместен вопрос, что представлял собою тот жреческий наддиалект, которым могли пользоваться жрецы от Новгорода до Дубровника, т. е. в какой мере входили в него лингвистические элементы из разных диалектов. Если ритуал, описанный в «Велесовой книге», был новгородского бытования, то с какой стати в нем так много южнославянских и польских черт? Кое-что из общеславянской языческой терминологии нам известно – это слова Бог, рай, черт, вероятно, див, а также имена некоторых божеств. То, что известно о славянском язычестве из независимых от «Велесовой книги» источников, не предполагает наличия текстов, чтение которых должно было бы сопровождать исполнение ритуала. Впрочем, «Велесова книга» ни в коей мере и не может быть основой ритуала, потому что ее историческая часть для богослужения непригодна, а гимны по их благопристойному содержанию больше подходят для хоров гимназисток, чем для воинов и работорговцев, прибивших щит на врата Царьграда, или для сельскохозяйственных тружеников «зоны рискованного земледелия», или для жителей лесов, занятых охотой и бортничеством.
«Жреческий язык» не позволяет составить сколько– нибудь благоприятное мнение о новгородских волхвах, которые им якобы пользовались.
Прежде всего бросается в глаза ограниченность лексического запаса, особенно религиозной и социальной терминологии, однообразие применяемых синтаксических средств. Возможно, будущие исследователи «Велесовой книги» потрудятся составить словарь, чтобы точнее оценить эту вопиющую бедность. Комментатор признается, что написал грамматику языка «Велесовой книги» (с. 233), но поверить в это трудно, поскольку он считает, что волхвы неплохо справлялись с формами глагола (с. 252), в действительности глагол оказался их ахиллесовой пятой (см. ниже).
При чтении «священного писания новгородских жрецов» мне удалось найти лишь одно место, которое можно оценить как сентенцию, афоризм, притчу, паремию – короче, как высказывание с признаками коллективной или индивидуальной мудрости, что так характерно для других произведений этого немаловажного в социальном плане жанра – «священного писания». Приведу эту притчу в качестве образца оформления мудрой мысли: «Муж прав ходяй до мове несть, иже реком есте ходящет прав быти, но есь иже слъвеси го а вершена до це съвпадашет. Тому рщено есь о стара, абосьмы творяли бяхом лиепая, яко дяды наши» (с. 142). Понимать эту мудрость следует так: «Не тот справедлив, кто исправно ходит в мовницу, а тот, у кого не расходятся слова с делами. Потому и сказано прежде, чтобы мы поступали хорошо, как предки наши». Поистине полезное и приличное поучение пай-мальчикам! Подробный разбор форм этого аграмматичного текста превратился бы в школьную работу над ошибками, но стоит обратить внимание на присутствие поздних украинско-польских элементов, особенно в образовании сослагательного наклонения.
Как видно из этой притчи и подтверждается другими местами «Велесовой книги», омовениям (очевидно, в новгородской бане – «мовнице») придается высокое ритуальное значение. Здесь «новгородские волхвы» явно оказались под обаянием попавшей в Начальную летопись киевской легенды об апостоле Андрее, в которой саркастически описаны новгородские бани. Читатель может вспомнить также о языческой антропогонии, изложенной в летописи под 1071 годом, согласно которой Бог, моясь в «мовнице», бросил на землю мочалку, из которой и возник человек.
Итак, можно уверенно заключить, что наши предки были банепоклонниками.
Язык «Велесовой книги» дает поразительные свидетельства сильной сарматофильской (полонофильской) тенденции «новгородских волхвов», что видно и в вышеприведенном отрывке. Вот еще примеры полонизмов: ляты (с. 50) = лѣта, кревь (с. 46) = кровь, менжо (с. 24) = муж или мѫжъ, жещуть (с. 26) = рекутъ, гренде (с. 32) = грѧди, пребендеть (с. 36) = пребудетѣ или прѣбѫдетѣ и даже пшебенде (с. 16) с тем же значением, узржехом (с. 12) = узрѣхом, пшелетла (с. 16) = прелетѣла. Как известно, переход смягченного ρ в ж/ш в польском языке отмечается лишь с XV века [108]. Сарматофильство «новгородских волхвов» простирается так далеко, что они вставляют носовые гласные там, где их никогда не было и быть не могло: до стенпы (с. 20) = до степи, о венце (с. 24) = о вѣцѣ, ренце ренбы пълнѣ на (с. 22) = рѣкы рыбы плъны, згенбель (с. 60) = гибель и т. п.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу