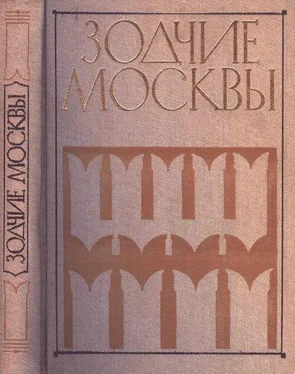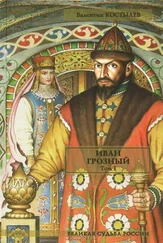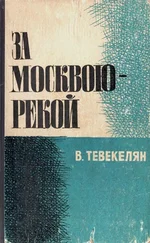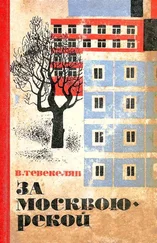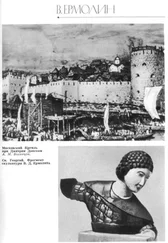В. Д. Ермолин сохранил интерьер собора. Квадратные столбы расставлены широко, причем стены не имеют лопаток, и поэтому создается впечатление глубокого и широкого пространства, усиленное отсутствием хоров. Под барабаном главы Василий Дмитриевич соорудил ступенчато повышающиеся подпружные арки, которые подчеркивали центричность композиции и высоту внутреннего пространства собора. Ермолин, вероятно, учел опыт подобной конструкции, применявшейся в русском зодчестве за двести лет до него.
Удачно собранный Ермолиным белокаменный портал входа в усыпальницу, два яруса высоких окон, пропускавших много света, придавали интерьеру законченность.
В. Д. Ермолин, наверно, внимательно искал среди резных плит художественную связь. И частично он нашел ее. В западном делении южного фасада он установил вместе два блока с изображением Троицы и ряд плит с гирляндами из человеческих и львиных голов. Под карнизом западной стены им были поставлены в ряд фигуры святых, бывших в колончатом поясе. Но около 90 разных камней попали как рядовые блоки в кладку сводов, скрытых под кровлей здания. В большом количестве разрозненные резные камни использовались для облицовки, а расколотые шли в кладку стен.
Ермолин резко снизил высоту сооружения. Возможно, это было сделано для быстрейшего окончания собора, а также для повышения его устойчивости. Таким образом, резко изменился облик храма, осталось неиспользованным множество белокаменных блоков и плит.
При восстановлении Георгиевского собора в советское время, когда были снесены пристройки к нему, а также дома поблизости, были обнаружены эти блоки и плиты. Ныне они составляют архитектурно-скульптурную коллекцию, собранную архитектором П. Д. Барановским и помещенную в экспозиции собора. В процессе многолетней работы современные архитекторы и искусствоведы составили из этих разных камней отдельные композиции, некогда украшавшие храм. Те сюжеты, которые сохранил Ермолин, позволяют с благодарностью вспоминать о нем.
1472 год был поворотным в архитектурно-строительной деятельности В. Д. Ермолина. Весной московский митрополит затеял строительство крупнейшего в Кремле Успенского собора на месте небольшой церкви, на площади перед своим двором. Предстояла интересная по архитектурному замыслу и значительная по размаху стройка. Василий Дмитриевич оставил работы в Юрьеве-Польском на попечение мастеров, а сам поспешил в Москву, чтобы взять строительный подряд в свои руки.
Но, видимо, не успел. Ему пришлось согласиться на совместную работу с подрядчиком Иваном Головой Владимировым. Но из этого ничего не получилось. Предчувствуя нелады в строительстве, Ермолин устранился от дальнейшего участия в нем. Последующие события показали, что без Ермолина строители Кривцов и Мышкин, которым в дальнейшем была поручена стройка, не справились с ней: 20 мая 1474 г. здание, уже перекрытое сводами, развалилось. Тогда Иван III поручил строительство Успенского собора приехавшему из Италии архитектору Аристотелю Фиораванти.
На этом оканчивается архитектурно-строительная деятельность В. Д. Ермолина, но имя его еще встречается на страницах летописи до 1481 г.
В Государственном Историческом музее хранится рукопись XVI века – «Синодальное собрание», в котором приведено «Послание от друга к другу». Оно было написано В. Д. Ермолиным Якубу – секретарю литовского князя Казимира, ставшего польским королем в 1447 г.
Дата письма не установлена; содержание его позволяет утверждать, что Василий Дмитриевич занимался организацией «книгописания» и знал в нем толк.
Можно полагать, что это письмо совпадает по времени написания с Ермолинской летописью, когда отошедший от бремени строительства Василий Дмитриевич принимает участие в изложении русской истории, в распространении рукописных книг. Живой и связный слог письма показывает, что автор его был образованным, культурным человеком, с большой эрудицией.
Следов деятельности Ермолина сохранилось мало; немногое о нем можно узнать из скудных сведений старинных летописей. Даже год смерти неясен (1481-1485); он взят на основании того, что после 1485 г. записи изложены совершенно другим слогом. Но и эти скупые строчки летописи показывают нам человека энергичного, опытного зодчего, руководителя и организатора архитектурно-строительных работ, которого можно считать родоначальником московской школы реставрации древнего зодчества. Смелый новатор в белокаменном декоре, Ермолин первый на Руси создал круглую белокаменную скульптуру, которая могла получить дальнейшее развитие, если бы не запрет церкви на подобного рода декор культовых зданий. Знаток и организатор рукописного книжного дела в Москве, Василий Дмитриевич и здесь оставил след своего неутомимого ума и умелых рук. И если взглянуть глазами современника на ту тяжелую обстановку, которая окружала зодчего, следует отдать ему должное как одному из замечательных людей средневековой Москвы.
Читать дальше